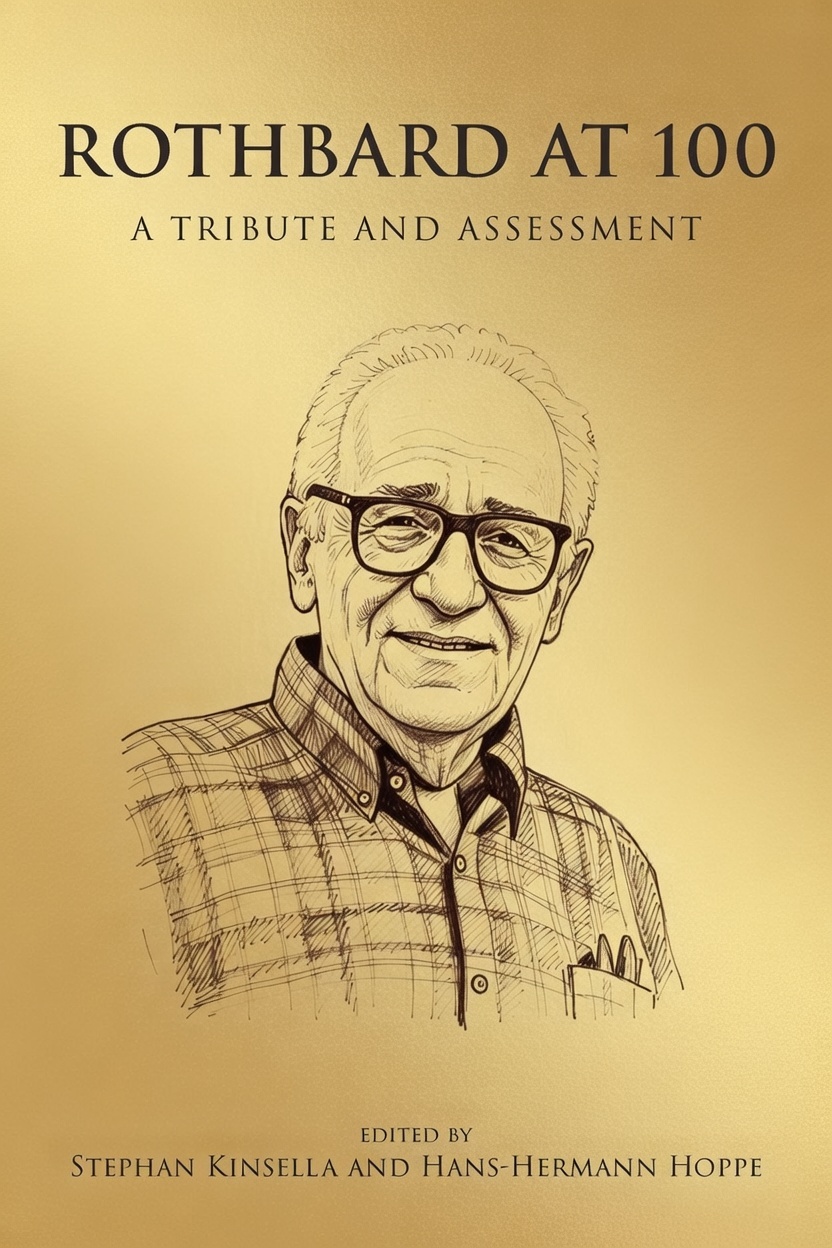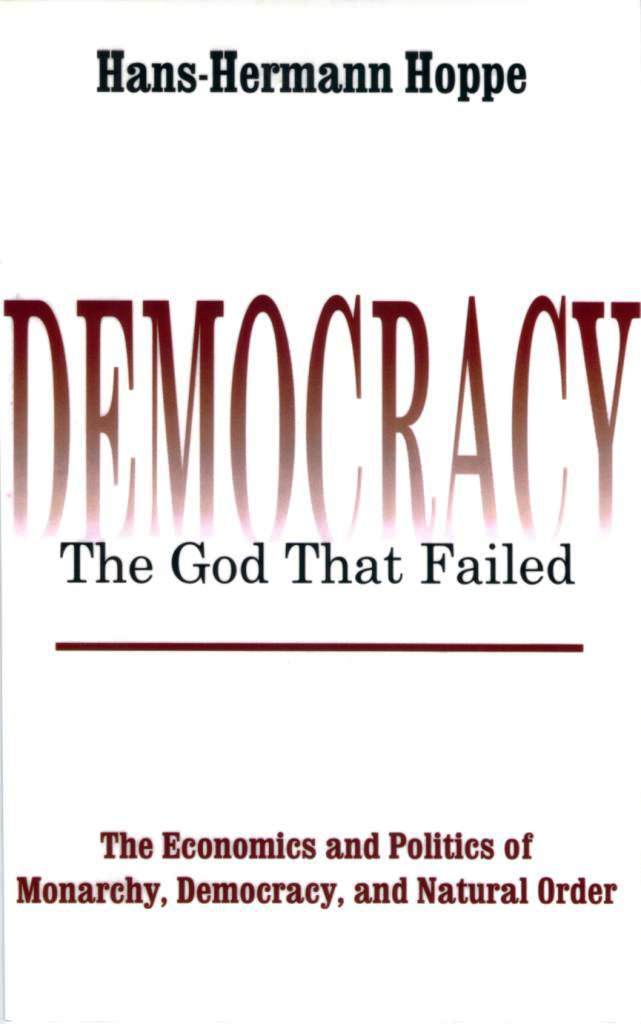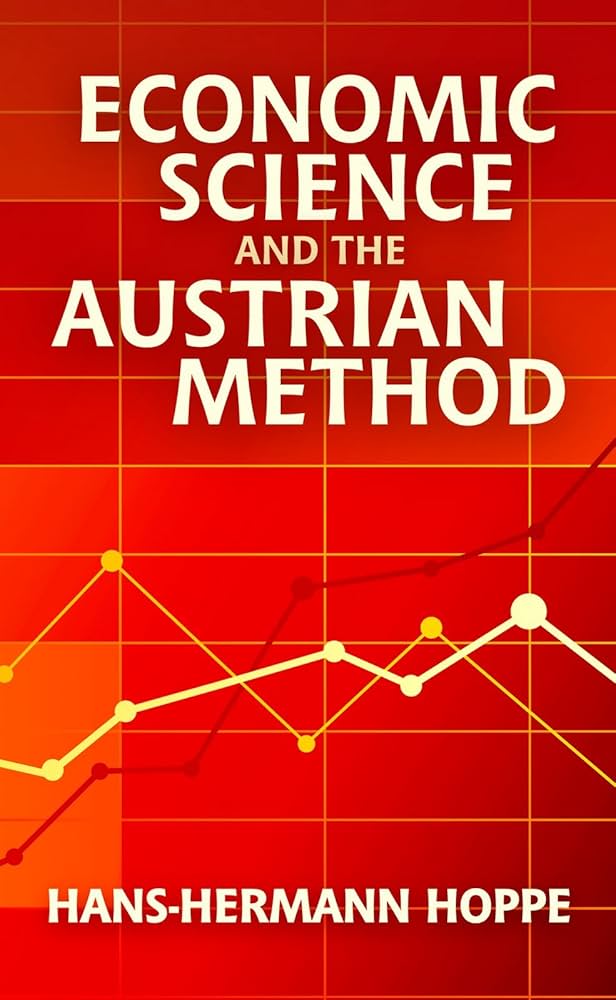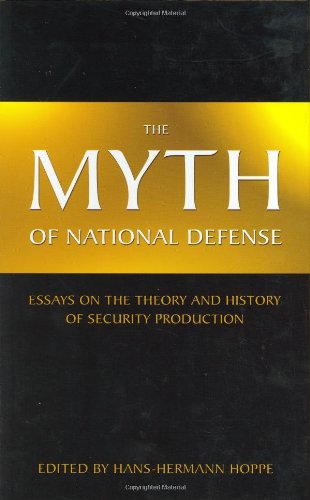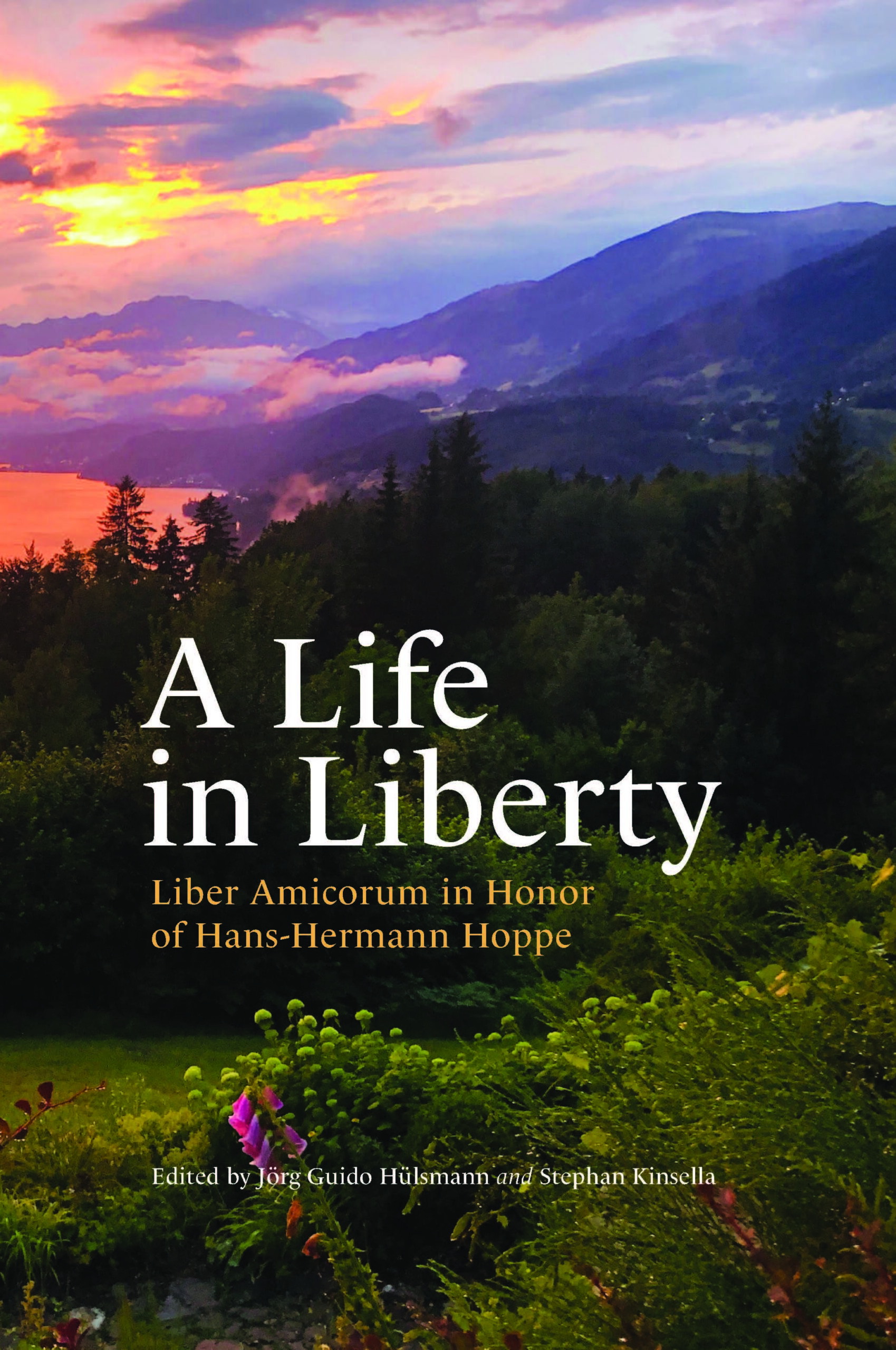Russian translation of Hans-Hermann Hoppe, ŌĆ£The Economics and Sociology of Taxation,ŌĆØ┬ĀJournal des Economistes et des Etudes Humaines 1, no. 2 (1990), reprinted in EEPP.┬Ā┬Ā[PDF] Translation by ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą©ąĄą▓čåąŠą▓ (Andrey Shevtsov).
See also a┬Āpartial Russian translation; and Hoppe info page on this site.
Ōئ
ąŁą║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ą░čÅ ąĖ čüąŠčåąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ą░čÅ č鹥ąŠčĆąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ
ąźą░ąĮčü-ąźąĄčĆą╝ą░ąĮ ąźąŠą┐ą┐ąĄ
ąÉą▓č鹊čĆ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ą░: ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą©ąĄą▓čåąŠą▓
ąÜą░ą║ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāąĄčé ąĘą░ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą║ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ čüčéą░čéčīąĖ, ą┐čĆąĖ ąĄąĄ ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĖ čÅ ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ ą┤ą▓ąĄ čåąĄą╗ąĖ. ąÆąŠ-ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ, čÅ čģąŠč鹥ą╗ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī ąŠą▒čēąĖąĄ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ. ąŁčéą░ čćą░čüčéčī čüčéą░čéčīąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐čĆą░ą║čüąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ąĖ ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ čüč鹊ąĖčé ąŠąČąĖą┤ą░čéčī, čćč鹊 ąĄąĄ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ ą▒čāą┤ąĄčé čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ąŠčéą╗ąĖčćą░čéčīčüčÅ ąŠčé čāąČąĄ čüą║ą░ąĘą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠ čŹč鹊ą╝čā ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖčüčéą░ą╝ąĖ.
ąæąŠą╗ąĄąĄ ąŠčĆąĖą│ąĖąĮą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓č鹊čĆą░čÅ čćą░čüčéčī čüčéą░čéčīąĖ, ą│ą┤ąĄ čÅ ą┐čŗčéą░čÄčüčī ąŠčéą▓ąĄčéąĖčéčī ąĮą░ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ: ┬½ą¤ąŠč湥ą╝čā čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ? ąś ą┐ąŠč湥ą╝čā ąĄą│ąŠ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ?┬╗ ąØąŠ ąŠčéą▓ąĄčéčŗ ąĮą░ čŹčéąĖ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĘą░ą┤ą░č湥ą╣ čāąČąĄ ąĮąĄ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ č鹥ąŠčĆąĖąĖ, ą░ čüąŠčåąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖą╗ąĖ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖąĮč鹥čĆą┐čĆąĄčéą░čåąĖąĖ ąĖ čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ, čāčćąĖčéčŗą▓ą░čÄčēąĄą╣ ą▓čŗą▓ąŠą┤čŗ ą┐čĆą░ą║čüąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĖ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĮąŠą╣ ąĖą╝ąĖ; ąĖ ą▓ čŹč鹊ą╝ ą┐ąŠą╗ąĄ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čü čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ąĮą░čćą░ą╗ą░ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠčüč鹊čĆ ą┤ą╗čÅ čĆą░ąĘą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĖą╣.
1. ąŁą║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ą░čÅ č鹥ąŠčĆąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ
ąóčĆčāą┤ąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī ąĮąĄčćč鹊 ąĮąŠą▓ąŠąĄ ąŠą▒ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅčģ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ąĮąŠ čŹč鹊 ą▓ąŠą▓čüąĄ ąĮąĄ ąĘąĮą░čćąĖčé, ą▒čāą┤č鹊 č鹊, čćč鹊 ąŠą▒ čŹč鹊ą╝ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, ąĮąĄ ą▒čāą┤ąĄčé ąĮąŠą▓ąŠčüčéčīčÄ ą┤ą╗čÅ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ. ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĮčŗčģ ą▓ ąĮą░čłąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ąŠą▓, ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĖą╣čéąĖ ą║ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖčÄ: č鹊, čćč鹊 čÅ čüąŠą▒ąĖčĆą░čÄčüčī čüą║ą░ąĘą░čéčī, ą▒čāą┤ąĄčé ąĮąŠą▓ąŠ ą┤ą╗čÅ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ą░ ąĮčŗąĮąĄčłąĮąĖčģ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖčüč鹊ą▓ ąĖ čüčéčāą┤ąĄąĮč鹊ą▓, ąĖąĘčāčćą░čÄčēąĖčģ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║čā. ąÆ č鹊ą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ, ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣ čŹčéąĖ č鹥ą║čüčéčŗ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĘą░čéčĆą░ą│ąĖą▓ą░čÄčé ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║čā ŌĆö čé. ąĄ. ą▓čŗčģąŠą┤čÅčé ąĘą░ čĆą░ą╝ą║ąĖ ą┐čĆąŠčüč鹊ą│ąŠ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓čŗčģ čüčģąĄą╝ ąĖ ąĖčģ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ┬╣, ŌĆö ąŠąĮąĖ čģčĆą░ąĮčÅčé ą┐ąŠčćčéąĖ ą┐ąŠą╗ąĮąŠąĄ ą╝ąŠą╗čćą░ąĮąĖąĄ ą┐ąŠ ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā ąŠą▒čēąĖčģ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ. ąÉ č鹊 ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠąĄ, čćč鹊 ą▓ ąĮąĖčģ čüąŠą┤ąĄčƹȹĖčéčüčÅ ą║ą░čüą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą║ąŠąĮą║čĆąĄčéąĮčŗčģ č乊čĆą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ŌĆö ą▓ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ą░čģ, ą┐ąŠčüą▓čÅčēąĄąĮąĮčŗčģ čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ, ŌĆö ąĮąĄąĖąĘą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮčŗą╝.
ąØąŠ čéą░ą║ąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ąĄčēąĄą╣ ąĄčüčéčī ąĮąĄ čćč鹊 ąĖąĮąŠąĄ, ą║ą░ą║ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┤ąĄą│čĆą░ą┤ą░čåąĖąĖ. ąĢą┤ą▓ą░ ą╗ąĖ ąĮąĄ ą▓čüąĄ, čćč鹊 ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą▒čŗčéčī ą┐ąŠąĮčÅč鹊 čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ą▒čŗą╗ąŠ ą║ąŠčĆčĆąĄą║čéąĮąŠ ąĖ čāą▒ąĄą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čüč乊čĆą╝čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąŠ ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ 150 ą╗ąĄčé ąĮą░ąĘą░ą┤ čéą░ą║ąŠą╣ ą▓čŗą┤ą░čÄčēąĄą╣čüčÅ čäąĖą│čāčĆąŠą╣ ą▓ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ č鹥ąŠčĆąĖąĖ, ą║ą░ą║ ą¢ą░ąĮ-ąæą░čéąĖčüčé ąĪąĄą╣, ą▓ ąĄą│ąŠ ┬½ąóčĆą░ą║čéą░č鹥 ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖąĖ┬╗.
ąÆ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą░ą▓č鹊čĆą░ą╝ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓čā ą▓čéąĖčüą║ąĖą▓ą░čÄčé ąŠą▒čüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ ą▓ ąŠą▒čēčāčÄ ą║ąŠą╝ą┐ąŠąĘąĖčåąĖčÄ čüą▓ąŠąĖčģ ą║ąĮąĖą│ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ąĪąĄą╣ ą║ąŠčĆčĆąĄą║čéąĮąŠ ą┐ąŠą╝ąĄčēą░ąĄčé ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ č乥ąĮąŠą╝ąĄąĮą░ ą▓ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ ┬½ą× ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░┬╗. ą×ąĮ ą▒ąĄąĘąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčé ąĖ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄčé ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą║ą░ą║ ąĮą░čüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖ ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĖąĄ ąĘą░ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ąĮą░ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ąŠąĮąŠ ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą▓ąĄčüčéąĖ ą║ ąĘą░ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąŠą▓ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░, ą▓ąŠą┐ą╗ąŠčēąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ąĖ ą║ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖčÄ ąŠą▒čēąĄą│ąŠ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ąČąĖąĘąĮąĖ.
┬½ąÆ ą▓čŗčüčłąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ąĮąĄą╗ąĄą┐ąŠ, ŌĆö ą┐ąĖčłąĄčé ąĪąĄą╣, ŌĆö ą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓ąĖą┤, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ, ą▒čāą┤čāčćąĖ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖąĄą╝ čćą░čüčéąĖ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéą░, čāą╝ąĮąŠąČą░čÄčé ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ąŠ ąĖ čćč鹊 ąŠąĮąĖ ąŠą▒ąŠą│ą░čēą░čÄčé ąĮą░čåąĖčÄ ą┐čāč鹥ą╝ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ čćą░čüčéąĖ ąĄąĄ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░┬╗.┬▓┬Ā┬½ąØą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ŌĆö čŹč鹊 ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ čćą░čüčéąĖ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéą░ ąĖąĘ čĆčāą║ čćą░čüčéąĮčŗčģ ą╗ąĖčå ą▓ čĆčāą║ąĖ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą┤ą╗čÅ ąŠą┐ą╗ą░čéčŗ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓ ąĖą╗ąĖ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąÜą░ą║ ą▒čŗ ąŠąĮąĖ ąĮąĖ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī, ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│, ą▓ąĘąĮąŠčü, ą┐ąŠčłą╗ąĖąĮą░, ą░ą║čåąĖąĘ, čéą░ą╝ąŠąČąĄąĮąĮčŗą╣ čüą▒ąŠčĆ, ą║ąŠąĮčéčĆąĖą▒čāčåąĖčÅ, čüčāą▒čüąĖą┤ąĖčÅ, ą┤ą░čĆ ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠąČąĄčĆčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ ą┤ąĄą╗ąĄ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝, ą▓ąŠąĘą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗą╝ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĄą╣ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ą╗ą░čüčéčīčÄ ąĮą░ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ą║ą░ą║ ą┐ąŠ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮąŠčüčéąĖ, čéą░ą║ ąĖ ąŠą▒čŖąĄą┤ąĖąĮąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ ą║ąŠčĆą┐ąŠčĆą░čåąĖčÄ, ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĘą░ ąĖčģ čüč湥čé č鹥čģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠąĮą░ ą╝ąŠąČąĄčé čüč湥čüčéčī ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮčŗą╝ąĖ. ąÜąŠčĆąŠč湥 ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅ, ą┤ą░ąĮčī ą▓ ą┐čĆčÅą╝ąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ čüą╗ąŠą▓ą░┬╗.┬│
ą¤ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā čŹčéąĖ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖą┤ąĄąĖ, ą┐ąŠ-ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠą╝čā, ą▒čŗą╗ąĖ ąĘą░ą▒čŗčéčŗ ąĖą╗ąĖ, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮčŗą╝ąĖ, čÅ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÄ čüąĄą▒ąĄ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī ąĘą░ąĮąŠą▓ąŠ ą┐čĆą░ą║čüąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠąĄ ą┤ąŠą║ą░ąĘą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĖ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą│ąŠ ą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčéą░ ąĪąĄčÅ, ą┐ąŠą║ą░ąĘą░čéčī ąĄą│ąŠ ąŠčüąĮąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī ąĖ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ąĮčāčéčī ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĮčŗąĄ ┬½ą║ąŠąĮčéčĆą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčéčŗ┬╗, ą┐čĆąĄą┤čŖčÅą▓ą╗čÅąĄą╝čŗąĄ ą▓ ą┤ąŠą║ą░ąĘą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐čĆąĄą┐čÅčéčüčéą▓čāąĄčé ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░ ąĖ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąÆ čüą▓ąĄč鹥 čŹč鹊ą│ąŠ ąŠą▒čēąĄą│ąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮąĖčÅ ą▒čāą┤čāčé ąĘą░č鹥ą╝ ą┐čĆąŠą┤ąĄą╝ąŠąĮčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮčŗ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠčłąĖą▒ą║ąĖ čüčéą░ąĮą┤ą░čĆčéąĮčŗčģ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ.
ąóąŠ, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ, ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąĖ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĖ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ čéčĆą░ą║č鹊ą▓ą░čéčīčüčÅ ą║ą░ą║ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠ čĆą░ąĘčĆčāčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüčŗ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ, čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░, čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąĖąĘ ą┐čĆąŠčüč鹊ą│ąŠ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░ čüą╝čŗčüą╗ą░ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ.
ąØą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ŌĆö čŹč鹊 ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ, ąĮąĄ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮą░čÅ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░čćą░ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąĖčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ (ą▓ ąĮą░čłąĖ ą┤ąĮąĖ čŹč鹊, ą║ą░ą║ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠ, ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ, ąĮąŠ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ) ąĖ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĮąŠą╣ ą▓ ąĮąĖčģ čåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąŠčé č鹥čģ ą╗ąĖčå ąĖą╗ąĖ ą│čĆčāą┐ą┐, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗ąĖ čŹčéąĖą╝ąĖ ą░ą║čéąĖą▓ą░ą╝ąĖ ąĖ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┐ąŠą╗čāčćą░čéčī ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝ ą┤ąŠčģąŠą┤ ąŠčé ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ, ą▓ čĆčāą║ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ąĖą╗ąĖ ą│čĆčāą┐ą┐, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ č鹥ą┐ąĄčĆčī čüčéą░ąĮąŠą▓čÅčéčüčÅ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗čīčåą░ą╝ąĖ ąĖ ą╝ąŠą│čāčé ą┐ąŠą╗čāčćą░čéčī ą┤ąŠčģąŠą┤. ąÜą░ą║ čŹčéąĖ ą░ą║čéąĖą▓čŗ ą┐ąŠą┐ą░ą╗ąĖ ą▓ čĆčāą║ąĖ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮčŗčģ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓? ąĢčüą╗ąĖ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖčéčī, čćč鹊 čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹊ą╝ ą┐čĆąĄą┤čłąĄčüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ ą░ą║čéą░ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ąĖ čāč湥čüčéčī, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ┬Āą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│ą░čÄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ č鹥 ą░ą║čéąĖą▓čŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮčŗ ąĖ ąĖčģ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąĮąĄ ą▒čŗą╗ą░ ąĖčüč湥čĆą┐ą░ąĮą░ ą░ą║čéą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ (čüą▒ąŠčĆčēąĖą║ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ ąĘą░ą▒ąĖčĆą░ąĄčé ąĮąĄ ąŠčéčģąŠą┤čŗ, ą░ ą┐ąŠ-ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝čā čåąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ąĄčēąĖ!), č鹊 čüčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčé čéčĆąĖ, ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ čéčĆąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ:
- čŹčéąĖ ą░ą║čéąĖą▓čŗ ą┐ąŠą┐ą░ą╗ąĖ ą▓ąŠ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ą░ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖčÅ ąĖą╝ č鹥čģ ąĖą╗ąĖ ąĖąĮčŗčģ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąŠą╣ ą▒ą╗ą░ą│, ąŠčåąĄąĮąĄąĮąĮčŗčģ ąĖą╝ ą║ą░ą║ čĆąĄą┤ą║ąĖąĄ, ą┤ąŠ č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ą║ ą║č鹊-ąĮąĖą▒čāą┤čī ąĄčēąĄ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ ąĖ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĖą╗ čŹčéąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéčŗ;
- ąŠąĮąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ čéčĆčāą┤ąŠą╝ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ą░ ąĖąĘ čĆą░ąĮąĄąĄ ąĖą╝ąĄą▓čłąĖčģčüčÅ ą▓ ąĄą│ąŠ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ ą▒ą╗ą░ą│;
- ąŠąĮąĖ ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮčŗ ą┐čāč鹥ą╝ ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ, ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖčÅ čā ą║ąŠą│ąŠ-č鹊, ą║č鹊 čĆą░ąĮąĄąĄ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄą╗ ąĖą╗ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą╗ ąĖčģ.
ąóąŠą╗čīą║ąŠ čéą░ą║ąĖą╝ąĖ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅą╝ąĖ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčéą░čéčī ąĖ ąĮą░ą║ą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░čéčī čåąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖ, čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗąĄ ą░ą║čéąĖą▓čŗ. ąÉą║čéčŗ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčé ą▓ ą┐čĆąĖąĮąŠčüčÅčēąĖą╣ ą┤ąŠčģąŠą┤čŗ ą░ą║čéąĖą▓ č鹊, čćč鹊 ąĮąĖą║č鹊 ą┤ąŠ čŹč鹊ą│ąŠ ąĮąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠą│ąŠ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ ą┤ąŠčģąŠą┤ą░. ąÉą║čéčŗ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą┐ąŠ čüą░ą╝ąŠą╣ čüą▓ąŠąĄą╣ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĄ ąĖą╝ąĄčÄčé čåąĄą╗čīčÄ čéčĆą░ąĮčüč乊čĆą╝ą░čåąĖčÄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ čåąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ą║čéąĖą▓ą░ ą▓ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čåąĄąĮąĮčŗą╣. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčå, ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą░ą║čé ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░ ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ čüą┐ąĄčåąĖčäąĖč湥čüą║ąĖčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ ąĖąĘ čĆčāą║ č鹊ą│ąŠ, ą┤ą╗čÅ ą║ąŠą│ąŠ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĖą╝ąĖ ą╝ąĄąĮąĄąĄ čåąĄąĮąĮąŠ, ą▓ čĆčāą║ąĖ č鹊ą│ąŠ, ą║č鹊 čåąĄąĮąĖčé ąĖčģ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ.
ąśąĘ čŹč鹊ą│ąŠ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé, čćč鹊 ą╗čÄą▒ą░čÅ č乊čĆą╝ą░ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖąĄ ą┤ąŠčģąŠą┤ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą╝ąŠąČąĄčé ąŠąČąĖą┤ą░čéčī ąŠčé ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖčÅ, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖą╗ąĖ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░. ąś ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā čŹčéąĖ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ čéčĆąĄą▒čāčÄčé ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čĆąĄą┤ą║ąĖčģ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓ (ą┐ąŠ ą╝ąĄąĮčīčłąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĖ čāčüąĖą╗ąĖą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąŠą│ąŠ č鹥ą╗ą░), ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗ ą▒čŗčéčī ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮčŗ ąĖąĮčŗą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą╝ ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ/ąĖą╗ąĖ ą┤ąŠčüčāą│ą░, ą░ą╗čīč鹥čĆąĮą░čéąĖą▓ąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹ║ąĖ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖčÅ, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖčÅ čĆą░čüčéčāčé. ąśčģ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮą░čÅ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéčī čāą▒čŗą▓ą░ąĄčé, č鹊ą│ą┤ą░ ą║ą░ą║ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮą░čÅ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┤ąŠčüčāą│ą░ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ. ąĪą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą▒čāąČą┤ą░ąĄčé ą║ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤čā ąŠčé ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ čéčĆąĄčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą║ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╝ ą┤ą▓čāą╝.Ōü┤
ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čüąŠą║čĆą░čēą░ąĄčé č鹥ą║čāčēąĖą╣ ą┤ąŠčģąŠą┤ ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī č鹥ą║čāčēąĄą│ąŠ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ (ą▓ čłąĖčĆąŠą║ąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ čüą╗ąŠą▓ą░, čé.ąĄ. ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÅ č鹥čģ, ą║č鹊 ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅąĄčé ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮąŠąĄ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖąĄ) ą┐čāč鹥ą╝ ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅ čåąĄąĮąĮčŗčģ, ąĮąŠ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ ą▓ čĆčāą║ąĖ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ąĮąĄ ąĖą╝ąĄčÄčēąĖčģ ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ ą║ ąĖčģ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓čā, ŌĆö ą▓čŗą▓ąŠą┤, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĄąĮ. ąæąŠą╗ąĄąĄ č鹊ą│ąŠ, ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čüąĮąĖąČą░ąĄčé čüčéąĖą╝čāą╗čŗ ą║ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓čā čåąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ ąĖ, čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čüąĮąĖąČą░ąĄčé ąĄčēąĄ ąĖ ą▒čāą┤čāčēąĖą╣ ą┤ąŠčģąŠą┤, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▒čāą┤čāčēąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąØą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄ ą┐čĆąŠčüč鹊 ąĮą░ąĮąŠčüąĖčé čāčēąĄčĆą▒ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą▒ąĄąĘ ą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ą▒čŗ č鹊 ąĮąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ čāčüąĖą╗ąĖčÅ, ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ąŠąĮąŠ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čĆą░ąĘčĆčāčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓čāąĄčé ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠą│ąŠ čĆąŠčüčéą░ ą▒čāą┤čāčēąĖčģ ą┤ąŠčģąŠą┤ąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ąĖčģ čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓. ąĪąĮąĖąČą░čÅ č鹥ą║čāčēčāčÄ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčī čāčüąĖą╗ąĖą╣, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą▒čāą┤čāčēąĄą╣ čåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą▓čŗčłą░ąĄčé čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćč鹥ąĮąĖą╣, čé. ąĄ. ą▒ą░ąĘąŠą▓čāčÄ čüčéą░ą▓ą║čā ą┐čĆąŠčåąĄąĮčéą░, ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąĄčé ą║ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖčÄ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą▒ąĄąĘąČą░ą╗ąŠčüčéąĮąŠ č鹊ą╗ą║ą░ąĄčé ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąŠ ą║ ą┤ąĄą│čĆą░ą┤ą░čåąĖąĖ, ą║ ą┐čĆąĖą╝ąĖčéąĖą▓ąĮąŠą╝čā čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ┬½ąĮą░ ą┐ąŠą┤ąĮąŠąČąĮąŠą╝ ą║ąŠčĆą╝čā┬╗. ąĪą┤ąĄą╗ą░ą╣č鹥 ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╝ąĖ, ąĖ ą▓čŗ ąĮąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄč鹥 čĆąŠą┤ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣ ą┤ąŠ ą▓ą░čĆą▓ą░čĆčüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ąČąĖą▓ąŠčéąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ.
ąÜą░ą║ąĖą╝ ą▒čŗ ą┐čĆąŠčüčéčŗą╝ ąĮąĖ ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī čŹč鹊 čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ, čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé ą╝ą░čüčüą░ čĆą░čüčģąŠąČąĖčģ ą▓ąŠąĘčĆą░ąČąĄąĮąĖą╣. ą×ą┤ąĮąŠ ąĖąĘ ąĮąĖčģ, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą╝čŗ čćą░čüč鹊 čüą╗čŗčłąĖą╝ ąŠčé 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖčüč鹊ą▓, ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠ čüčćąĖčéą░čÄčēąĖčģ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║čā 菹╝ą┐ąĖčĆąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮą░čāą║ąŠą╣, ą▓čŗčĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░čÄčēąĄą╣ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą│ąĖą┐ąŠč鹥ąĘčŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ, čćč鹊ą▒čŗ čüčéą░čéčī č鹥ąŠčĆąĖčÅą╝ąĖ, ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗčéčī ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĄąĮčŗ ąĖ ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮčŗ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ąŠą┐čŗčéą░ (ą┐ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖąĖ čü č鹥ą╝, ą║ą░ą║ čŹč鹊 ą┤ąĄą╗ą░ąĄčéčüčÅ ą▓ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░čāą║ą░čģ). ąÉčĆą│čāą╝ąĄąĮčé ąĘą▓čāčćąĖčé čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝: ┬½ąŁą╝ą┐ąĖčĆąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄąŠą┤ąĮąŠą║čĆą░čéąĮąŠ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖąĄ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ čäą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ą░ą╗ąŠčüčī čĆąŠčüč鹊ą╝, ą░ ąĮąĄ ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖąĄą╝ ąÆąØą¤ ąĖą╗ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░č鹥ą╗ąĄą╣ ąŠą▒čŖąĄą╝ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░. ąĪą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮąŠąĄ čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ą┐čĆąĖ ą▓čüąĄą╝ ąĄą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ą┤ąŠą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĖąĖ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ą║ą░ą║ 菹╝ą┐ąĖčĆąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄčüąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ┬╗. ąØąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ 菹╝ą┐ąĖčĆąĖą║ąĖ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ąĘą░čģąŠą┤čÅčé ąĄčēąĄ ą┤ą░ą╗čīčłąĄ ąĖ ą┤ąĄą╗ą░čÄčé ąĄčēąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąĖą╗čīąĮąŠąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓čāąĄčé ą┐ąŠą┤čŖąĄą╝čā čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ąČąĖąĘąĮąĖ. ąÆ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ č鹊čé čäą░ą║čé, čćč鹊 ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüčéčĆą░ąĮčŗ, ąĮąĄą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖą╝ąĄą▓čłąĖąĄ ąĮąĖąĘą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąČąĖąĘąĮąĖ ąĖ ąĮąĖąĘą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, č鹥ą┐ąĄčĆčī ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčé ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ąŠą╝ ą┐čĆąĖ ąĮą░ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░čģ.
ą×ą▒ą░ čŹčéąĖ ą▓ąŠąĘčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą┐čĆąŠčüč鹊 ą┐čāčéą░ąĮąĖčåąĄą╣. ą×ą┐čŗčé ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ąĮčāčéčī ą╗ąŠą│ąĖą║čā, ąĖ ąĖąĮč鹥čĆą┐čĆąĄčéą░čåąĖčÅ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅ, ąĮą░čģąŠą┤čÅčēą░čÅčüčÅ ą▓ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄčćąĖąĖ čü ąĘą░ą║ąŠąĮą░ą╝ąĖ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▓čŗą▓ąŠą┤ą░, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĮąĄ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčƹȹĄąĮąĖąĄą╝ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ, ą░ čüąĖą╝ą┐č鹊ą╝ąŠą╝ ┬½ą║ą░čłąĖ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ┬╗. (ąÜą░ą║ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖčüčī ą║ čüąŠąŠą▒čēąĄąĮąĖčÄ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮąĄą║č鹊 ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą┐čéąĖčåčā, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ą▒čŗą╗ą░ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ą║čĆą░čüąĮąŠą│ąŠ ąĖ ąĮąĄ ą║čĆą░čüąĮąŠą│ąŠ čåą▓ąĄčéą░? ąÜą░ą║ ą║ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčƹȹĄąĮąĖčÄ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą║ąŠąĮą░ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄčćąĖčÅ ąĖą╗ąĖ ą║ą░ą║ ą║ ą▓čŗčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĮąĖčÄ ąĖą┤ąĖąŠčéą░?)
ą¦č鹊 ą║ą░čüą░ąĄčéčüčÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąĖą╗čīąĮąŠą│ąŠ č鹥ąĘąĖčüą░, č鹊 ąŠąĮ ą┐čĆąĄą║čĆą░čüąĮąŠ ąĖą╗ą╗čÄčüčéčĆąĖčĆčāąĄčé ą▓čüąĄą│ą┤ą░čłąĮčÄčÄ ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą░č鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠčłąĖą▒ą║ąĖ┬Āpost hoc ergo propter hoc. ąśąĘ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąĖąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ ąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąŠąĘąČąĄ, č湥ą╝ ąĮąĖąĘą║ąĖąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ ąĖ ą╝ąĄąĮčīčłąĄąĄ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ąŠ, ą┤ąĄą╗ą░ąĄčéčüčÅ ą▓čŗą▓ąŠą┤, čćč鹊 čĆąŠčüčé ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčé ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ąŠ. ąóą░ą║ąŠą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčéą░čåąĖąĖ čüč鹊ą╗čī ąČąĄ čāą▒ąĄą┤ąĖč鹥ą╗ąĄąĮ, ą║ą░ą║, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄąĄ čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ (čüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ąŠ ą▓čŗčüą╝ąĄčÅąĮąĮąŠąĄ ąĪąĄąĄą╝): ą▓ąĖą┤čÅ, čćč鹊 ą▒ąŠą│ą░čéčŗąĄ ą╗čÄą┤ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅčÄčé ą▒ąŠą╗čīčłąĄ, č湥ą╝ ą▒ąĄą┤ąĮčŗąĄ, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓čŗą▓ąŠą┤, čćč鹊 ąĖčģ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░.ŌüĄ┬ĀąóąŠčćąĮąŠ čéą░ą║ ąČąĄ, ą║ą░ą║ ąĖąĘ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ą┐ąŠąĮčÅčéąĖčÅ ┬½ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ┬╗ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé, čćč鹊 čŹč鹊 ąĮąĄą▓ąĄčĆąĮąŠ ąĖ čćč鹊, ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ą▒ąŠą│ą░čéčŗąĄ ą╗čÄą┤ąĖ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ čéą░ą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ąĮąĄ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╝čā čāčĆąŠą▓ąĮčÄ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ, ą░ ą▓ąŠą┐čĆąĄą║ąĖ ąĄą╝čā (čéą░ą║ ą║ą░ą║ čĆą░ąĮąĄąĄ ąŠąĮąĖ ą▓ąŠąĘą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠčé ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ čåąĄąĮąĮąŠčüč鹥ą╣) ŌĆö č鹊čćąĮąŠ čéą░ą║ ąČąĄ čüą╝čŗčüą╗ ą┐ąŠąĮčÅčéąĖčÅ ┬½ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ┬╗ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░ąĄčé, čćč鹊 č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüčéą▓ąŠ ą╝ąŠąČąĄčé čüčéą░čéčī ą┐čĆąŠčåą▓ąĄčéą░čÄčēąĖą╝ ąĮąĄ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ą╝, ąĮąŠ ą▓ąŠą┐čĆąĄą║ąĖ ąĖą╝.
ą¦č鹊 ą║ą░čüą░ąĄčéčüčÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüą╗ą░ą▒ąŠą│ąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ąŠą┐čŗčé, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ą░ąĄčé ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĄ ąĮąĄąĖąĘą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüą▓čÅąĘąĖ ą╝ąĄąČą┤čā ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖ ąŠą▒čŖąĄą╝ąŠą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, č鹊 čŹč鹊čé č鹥ąĘąĖčü čéą░ą║ąČąĄ ą▒čīąĄčé ą╝ąĖą╝ąŠ čåąĄą╗ąĖ. ą¤čĆą░ą║čüąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠąĄ čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠąĄ ą▓čŗčłąĄ, ąĮąĄ ąĖčüą║ą╗čÄčćą░ąĄčé ą▓čüąĄą│ąŠ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖčüčéčŗ-菹╝ą┐ąĖčĆąĖą║ąĖ ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠ ąĖąĮč鹥čĆą┐čĆąĄčéąĖčĆčāčÄčé ą║ą░ą║ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčƹȹĄąĮąĖąĄ. ąĀą░ąĮąĄąĄ ąĮą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ čüą┤ąĄą╗ą░ąĮ ą▓čŗą▓ąŠą┤ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčé ą║ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝čā čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖčÄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖą╝ąĄčÄčēąĖčģ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓; čé. ąĄ. čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖčÄ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü č鹥ą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą╝ąŠą│ ą▒čŗ ą▒čŗčéčī ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāčé ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĖą╗ąĖ ąĄčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąĄą│ąŠ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąĮąĄ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ą╗čüčÅ. ąØąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ą╗ąŠčüčī ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠą│ąŠ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čåąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓. ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ čĆąŠčüčé ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠą╣ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮčŗ ąÆąØą¤, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ čüąŠą▓ą╝ąĄčüčéąĖą╝ čü ąĖąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗą╝ ą▓čŗčłąĄ ą┐čĆą░ą║čüąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘąŠą╝, ąĮąŠ ą╝ąŠąČąĄčé čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ą║ą░ą║ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĮąŠčĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗą╣ č乥ąĮąŠą╝ąĄąĮ, ą▓ č鹊ą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ, ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣ ą┤ąĄą╗ą░ąĄčéčüčÅ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝ ąĖ čĆąĄą░ą╗čīąĮąŠ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ. ąĢčüą╗ąĖ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ čāčüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ ą┐čĆąŠą┤čāą║čåąĖąĖ čü ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓ (ą▓ č鹥čĆą╝ąĖąĮą░čģ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹĄą║) ąĖą╗ąĖ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ ą┐čĆąŠą┤čāą║čåąĖąĖ ą┐čĆąĖ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĖ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓, č鹊 ąĮąĄčé ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╝ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĖ čĆąŠčüč鹥 ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čåąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓. ąØąŠ, čĆą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅ, čŹč鹊 ąĮąĖ ą▓ ą╝ą░ą╗ąĄą╣čłąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ąĮąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĄčé ąĮą░ ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī čĆą░ąĮąĄąĄ čüą┤ąĄą╗ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓čŗą▓ąŠą┤ą░ ąŠą▒ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝ ąŠą▒ąĄą┤ąĮąĄąĮąĖąĖ ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ. ą¤čĆąĖ ąĘą░ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĘąĮą░ąĮąĖą╣ (ą║ą░ą║ ą▒čŗ ąŠąĮąĖ ąĮąĖ ąĖąĘą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖčüčī čü č鹥č湥ąĮąĖąĄą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ) ąĖ ą┐čĆąĖ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĄčüčéčī ąĮąĄ čćč鹊 ąĖąĮąŠąĄ, ą║ą░ą║ ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĖąĄ ąĘą░ čāčüąĖą╗ąĖčÅ ą┐ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓čā čåąĄąĮąĮąŠčüč鹥ą╣, ąŠą▒čŖąĄą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠ ą▒čāą┤ąĄčé ąĮąĖąČąĄ č鹊ą│ąŠ, ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ą┤ąŠčüčéąĖčćčī ą┐čĆąĖ č鹊ą╝ ąČąĄ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ ąĘąĮą░ąĮąĖą╣ ą┐čĆąĖ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĖą╗ąĖ ą┐čĆąĖ ąĄą│ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĮąĖąĘą║ąŠą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ. ąś ąĘą┤ąĄčüčī čüčéą░čéąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▒čīčÄčé ą╝ąĖą╝ąŠ čåąĄą╗ąĖ: ąŠąĮąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│čāčé ąĮąĖ ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčĆą┤ąĖčéčī, ąĮąĖ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ąĮčāčéčī čŹč鹊čé č鹥ąĘąĖčü.
ąĢčēąĄ ąŠą┤ąĮąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ąĮą░ čüąĄą╣ čĆą░ąĘ č鹥ąŠčĆąĄčéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆą░, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĮąŠčüčéčīčÄ, čüąŠčüč鹊ąĖčé ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčé ą║ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖčÄ ą┤ąŠčģąŠą┤ą░, ą┐ąŠą╗čāčćą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ ąŠčé ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓; čŹč鹊 čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą▓čŗčłą░ąĄčé ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮčāčÄ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéčī čéą░ą║ąĖčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü č鹥ą╝ąĖ ą▒ą╗ą░ą│ą░ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗ ą▒čŗčéčī ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮčŗ ąŠčé ą┤čĆčāą│ąĖčģ č乊čĆą╝ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ; ąĖ ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ąĄčé, ą░ ąĮąĄ čüąĮąĖąČą░ąĄčé čüčéąĖą╝čāą╗čŗ ą║ ąĘą░ąĮčÅčéąĖčÄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčīčÄ. ą¤čĆąĖą╝ąĄąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą║ ąŠą▒čŗčćąĮąŠą╝čā ąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ čŹč鹊 ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ čüąŠą║čĆą░čēą░čÄčé ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗą╣ ą┤ąŠčģąŠą┤, č鹥ą╝ čüą░ą╝čŗą╝ ąŠąĮąĖ ą┐ąŠą▓čŗčłą░čÄčé ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮčāčÄ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéčī ą┤ąĄąĮąĄą│, čćč鹊, ą▓ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ąĄčé čüčéąĖą╝čāą╗ ą║ ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĖčÄ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗčģ ą┤ąŠčģąŠą┤ąŠą▓. ąĪą░ą╝ ą┐ąŠ čüąĄą▒ąĄ čŹč鹊čé ą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčé, ąĮąĄčüąŠą╝ąĮąĄąĮąĮąŠ, ą▓ąĄčĆąĄąĮ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ ąĮąĄą┤ąŠčĆą░ąĘčāą╝ąĄąĮąĖąĄą╝ čüčćąĖčéą░čéčī, čćč鹊 ąŠąĮ ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣ ą▒čŗ č鹊 ąĮąĖ ą▒čŗą╗ąŠ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ą░ąĄčé ą▓čŗą┤ą▓ąĖąĮčāčéčŗą╣ ą╝ąĮąŠčÄ č鹥ąĘąĖčü ąŠą▒ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝ ąŠą▒ąĄą┤ąĮąĄąĮąĖąĖ. ą¤ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓čā čŹč鹊ą│ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄąĄ: ą┤ą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 ą▓ąŠąĘčĆąŠčüčłąĄąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠąĄ ą▒čĆąĄą╝čÅ ąĮąĄ ą▓ąĄą┤ąĄčé ą║ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝čā čüąĮąĖąČąĄąĮąĖčÄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čåąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ąĄčé ą┐čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą▓čüą┐ą╗ąĄčüą║ ┬½čéčĆčāą┤ąŠą│ąŠą╗ąĖąĘą╝ą░┬╗ (ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠąĄ ą▓ąŠąĘčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ą┐ąŠ-ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠą╝čā, ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčé ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čŹč鹊, ąĖ, ą║ą░ą║ ą╝čŗ čāą▓ąĖą┤ąĖą╝, ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠ), č鹥ą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ą┤ąŠčģąŠą┤ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ąŠą▓ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ą┐ą░ą┤ą░ąĄčé. ąöą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ ąŠąĮąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░čÄčé ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖčéčī ą┐čĆąŠą┤čāą║čåąĖčÄ ą▓ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝ ąŠą▒čŖąĄą╝ąĄ, čŹč鹊 ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠč鹊ą╝čā, čćč鹊 ąŠąĮąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąĘą░čéčĆą░čćąĖą▓ą░čÄčé ąĮą░ čŹč鹊 ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čéčĆčāą┤ą░. ąÉ ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą╗čÄą▒ąŠą╣ čĆą░čüčģąŠą┤ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čéčĆčāą┤ą░ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░ąĄčé čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ ą┤ąŠčüčāą│ą░ ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ (č鹊čé ą┤ąŠčüčāą│ ąĖą╗ąĖ č鹊 ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ąĖ ąŠąĮąĖ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗ ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ą┐čĆąĖ č鹊ą╝ ąČąĄ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čåąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓), ąĖčģ ąŠą▒čēąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąČąĖąĘąĮąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī čü ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠčüčéčīčÄ ąŠą║ą░ąČąĄčéčüčÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĮąĖąĘą║ąĖą╝.ŌüČ
ąĢčüą╗ąĖ ą┐čĆąĖąĘąĮą░čéčī čŹč鹊, č鹊 čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ čéą░ą║ąČąĄ ą┐ąŠąĮčÅčéąĮčŗą╝, ą┐ąŠč湥ą╝čā čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄą▓ąĄčĆąĮąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ ą▓ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüą╗čāčćą░čÅčģ ą╝ąŠą│čāčé čāą╝ąĄąĮčīčłą░čéčī ąŠą┤ąĮąŠ ą╗ąĖčłčī ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ą▓ą╗ąĖčÅčéčī ąĮą░ ąŠą▒čŖąĄą╝čŗ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčēąĖčģ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓. ąØąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī ą▓ąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ ą┤ą▓ą░ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗčģ čäą░ą║čéą░, ą░ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ: (1) ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čāą╝ąĄąĮčīčłą░ąĄčé ą┤ąŠčģąŠą┤ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ą░ (ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÄčēąĖą╣ ą▓čŗą│ąŠą┤čā ąŠčé č鹥ą║čāčēąĄą│ąŠ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┤ąŠčüčāą│ą░) ąĖ (2) čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüą░ą╗čīąĮčŗą╣ čäą░ą║čé čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćč鹥ąĮąĖčÅ, ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░čÄčēąĖą╣čüčÅ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĖą╣ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćąĖčéą░ąĄčé ąĮą░ą╗ąĖčćąĮčŗąĄ ą▒ą╗ą░ą│ą░ ą▒čāą┤čāčēąĖą╝ ą▒ą╗ą░ą│ą░ą╝ (ąĖąĮčŗą╝ąĖ čüą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ, ą╗čÄą┤ąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│čāčé ąČąĖčéčī ą▒ąĄąĘ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ, ąĖ ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ čāčćą░čüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī ą▓ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ŌĆö ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ą╝ąĄč鹊ą┤čŗ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÄčēąĖąĄ ą┐čĆąŠą╝ąĄąČčāč鹊čćąĮčŗąĄ čüčéą░ą┤ąĖąĖ, ąĖą╝ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ąĖą╝ąĄčéčī ąĘą░ą┐ą░čü ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ąĖčģ ą▒ą╗ą░ą│ ąĮą░ ą▓ąĄčüčī ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ). ąśąĘ čŹčéąĖčģ ą┤ą▓čāčģ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčüčŗą╗ąŠą║ čü ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčīčÄ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé, čćč鹊 ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćč鹥ąĮąĖčÅ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ą░ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░čéčī (ąĖąĮčŗą╝ąĖ čüą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ, ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░čéčī čéčÅąČąĄčüčéčī ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ). ąĪą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čī ą▒čāą┤ąĄčé čüąŠą║čĆą░čēą░čéčī ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ (ą┐ąŠą╗ąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čåąĖą║ą╗ą░) ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü č鹊ą╣, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ąŠąĮ ą▓čŗą▒čĆą░ą╗ ą▒čŗ ą▓ ąĖąĮčŗčģ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░čģ. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝ ąŠą▒čŖąĄą╝ ą▓čŗą┐čāčüą║ą░ąĄą╝čŗčģ čåąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ ąŠą║ą░ąČąĄčéčüčÅ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ, č湥ą╝ ąŠąĮ ą╝ąŠą│ ą▒čŗ ą▒čŗčéčī. ą¤čĆąĖ ąĮąĖąĘą║ąŠą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĖą╗ąĖ ą┐čĆąĖ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĖ ą┤ąŠčģąŠą┤ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ą░ ą▒čāą┤ąĄčé ą▓čŗčłąĄ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ą┐čĆąĖ ąĘą░ą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ čäčāąĮą║čåąĖąĖ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćč鹥ąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąĖ ą┐čĆąŠčćąĖčģ čĆą░ą▓ąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąŠąĮ čüą╝ąŠą│ ą▒čŗ ąĖąĮą▓ąĄčüčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī čĆąĄčüčāčĆčüčŗ ą▓ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠčåąĄčüčü, ąĖ, ą║ą░ą║ čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ čŹč鹊ą│ąŠ, ąŠą▒čŖąĄą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čåąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝ ą╝ąŠą│ ą▒čŗ ą▒čŗčéčī ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝.ŌüĘ
ą×čłąĖą▒ąŠčćąĮąŠčüčéčī č鹥ąĘąĖčüą░ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ąĮąĄą╣čéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÄ ą║ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓čā, čüąŠčüč鹊ąĖčé ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮąĄ čāčćąĖčéčŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćč鹥ąĮąĖčÅ. ąĀą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗą╣ ąĮą░ą╝ąĖ ą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčé čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ čüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé ąĮą░ ą┤ą▓ąŠą╣ąĮąŠą╣ čüąĖą│ąĮą░ą╗, ą┐ąŠčüčŗą╗ą░ąĄą╝čŗą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝: čü ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čŹčäč乥ą║čé ąĘą░ą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅ, ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĖą╣ ą▓ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ąĘą░ą╝ąĄąĮčŗ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖ ą┤ąŠčüčāą│ąŠą╝, ą░ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čŹčäč乥ą║čé ą┤ąŠčģąŠą┤ą░, ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░čÄčēąĖą╣čüčÅ ą▓ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĖ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ąĮąĄą▓ąĄčĆąĮčŗą╝ čāą┐čĆąŠčēąĄąĮąĮąŠ ąĖąĮč鹥čĆą┐čĆąĄčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī čŹč鹊 ą║ą░ą║ ą┐čĆąŠčüč鹊 čüą╝ąĄčłą░ąĮąĮčŗą╣ ą┐ą░ą║ąĄčé ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄčćąĖą▓čŗčģ čüąĖą│ąĮą░ą╗ąŠą▓ (ąŠą┤ąĖąĮ ąĘą░ č鹊, čćč鹊ą▒čŗ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī, ą░ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓) ŌĆö ąĖ ą┤ąĄą╗ą░čéčī ąĖąĘ čŹč鹊ą│ąŠ ą▓čŗą▓ąŠą┤, čćč鹊 ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖč湥čüą║ąĖ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░čéčī ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ąĖ čćč鹊 ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąŠ č鹊ą╝, ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄčé ą╗ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą║ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖčÄ ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖčÄ ąŠą▒čŖąĄą╝ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čåąĄąĮąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓, ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ą║ą░ą║ čćąĖčüč鹊 菹╝ą┐ąĖčĆąĖč湥čüą║ąĖą╣.ŌüĖ┬ĀąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ čüąĖą│ąĮą░ą╗, ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą░ąĄą╝čŗą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝, ą▓ąŠą▓čüąĄ ąĮąĄ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄčćąĖą▓čŗą╝, ąĄčüą╗ąĖ čāč湥čüčéčī, čćč鹊 ąŠąĮ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮ ą╗čÄą┤čÅą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅčģ ąĮąĄąĖąĘą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░čÄčé ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮ‘čŗčģ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćč鹥ąĮąĖą╣. ąöą╗čÅ čéą░ą║ąĖčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą░ą╗čīč鹥čĆąĮą░čéąĖą▓ą░ ┬½čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī ąĖą╗ąĖ ąĮąĄ čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī┬╗, ąĮąŠ čéą░ą║ąČąĄ ąĖ ą░ą╗čīč鹥čĆąĮą░čéąĖą▓ą░ ┬½ąĘą░čéčĆą░čćąĖą▓ą░čéčī ąĮą░ čĆą░ą▒ąŠčéčā ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖą╗ąĖ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ┬╗. ąóąŠ ąĄčüčéčī ąŠąĮąĖ ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮčŗ ą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓čŗą▒ąŠčĆ ą╝ąĄąČą┤čā (1) ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖąĄą╝ ą▒ą╗ą░ą│ ą▒čŗčüčéčĆčŗą╝ ąĖ ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ ą┐čāč鹥ą╝ čü ąĮąĄą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ, ąĮąŠ čåąĄąĮąŠą╣ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą╝ąĄąĮąĄąĄ čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ (ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ čĆčŗą▒ą░ą║ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čĆąĄčłą░ąĄčé ą╗ąŠą▓ąĖčéčī čĆčŗą▒čā ą│ąŠą╗čŗą╝ąĖ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī ąĄąĄ ą┐ąŠą▒čŗčüčéčĆąĄąĄ, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 č鹊ą│ąŠ čćč鹊ą▒čŗ ą┐čĆąĖą▒ąĄą│ąĮčāčéčī ą║ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą║ąŠčüą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ą░ą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░), ą╗ąĖą▒ąŠ (2) ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĖąĄą╝ čŹčéąĖčģ ą▒ą╗ą░ą│ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓, ąĮąŠ čåąĄąĮąŠą╣ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤ąŠą╗ą│ąŠą│ąŠ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ č鹊ą│ąŠ čćą░čüą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čāą┤ąĄčé ą┐ąŠąČą░čéčī ą┐ą╗ąŠą┤čŗ čüą▓ąŠąĄą╣ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ (čĆčŗą▒ą░ą║, ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĮčŗą╣ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ ąŠčéą┤ą░č湥ą╣ ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝, čĆąĄčłą░ąĄčé ą┐ąŠč鹥čĆą┐ąĄčéčī ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ, čćč鹊ą▒čŗ čüąĮą░čćą░ą╗ą░ čüą┐ą╗ąĄčüčéąĖ čüąĄčéčī). ąØąŠ ą▓ čĆą░ą╝ą║ą░čģ čŹč鹊ą│ąŠ ą▓čŗą▒ąŠčĆą░ čüąŠąŠą▒čēąĄąĮąĖąĄ, ą┐ąŠčüčŗą╗ą░ąĄą╝ąŠąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠ čÅčüąĮčŗą╝ ąĖ ąĮąĄą┤ą▓čāčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮčŗą╝, ąĖ ą▓ čŹč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĮąĄčé ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ čüąŠą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ, čćč鹊 čŹčäč乥ą║čé ąĘą░ą╝ąĄčēąĄąĮąĖčÅ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖ ą┐čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čéčī ąĮą░ą┤ ą╗čÄą▒čŗą╝ čŹčäč乥ą║č鹊ą╝ ą┤ąŠčģąŠą┤ą░. ąĢčüą╗ąĖ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ąĖą╝ąĄčéčī ąĖą╗ąĖ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄčéčī čćč鹊-č鹊, ąĮąŠ čéą░ą║ąČąĄ ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī čŹč鹊 ┬½čćč鹊-č鹊┬╗ ą▓ ą╝ąĄąĮčīčłąĄą╝ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄ, ąĮąŠ ą▒čŗčüčéčĆąĄąĄ, ąĖą╗ąĖ ą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╝ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄ, ąĮąŠ ą┐ąŠąĘąČąĄ, ą┤ą▓ąŠą╣ąĮąŠąĄ čüąŠąŠą▒čēąĄąĮąĖąĄ, ą┐ąŠčüą╗ą░ąĮąĮąŠąĄ ą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ą╗ąĄą│ą║ąŠ čüą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą▓ąŠąĄą┤ąĖąĮąŠ ąĖ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░ąĄčéčüčÅ ą▓ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄąĄ: čüąŠą║čĆą░čéąĖčéčī ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ, ąŠčéą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ ąŠčé čüą╗ąŠąČąĮčŗčģ ąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░! ą¤čĆąĖ čéą░ą║ąŠą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ čåąĄąĮąĮčŗąĄ ą░ą║čéąĖą▓čŗ ą▒čāą┤čāčé ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮčŗ čĆą░ąĮčīčłąĄ ŌĆö ą▓ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĖ čü ąĖčģ ą▓ąŠąĘčĆąŠčüčłąĄą╣ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéčīčÄ; ąĖ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ, ą▓ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĖ čü čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄą╝ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ, ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą╝ąĄčüčéą░ ą▒čāą┤ąĄčé ąŠčéą▓ąĄą┤ąĄąĮąŠ ą┤ąŠčüčāą│čā ŌĆö ą▓ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĖ čü ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ąĮąĖąĄą╝ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéąĖ. ąĪ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą║ąŠčüą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čāčćąĖčéčŗą▓ą░čÄčéčüčÅ ąŠą▒ą░ ą║ą░ąČčāčēąĖąĄčüčÅ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄčćąĖą▓čŗą╝ąĖ čüąĖą│ąĮą░ą╗ą░, ą┐ąŠčĆąŠąČą┤ą░ąĄą╝čŗąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝. ąÆąŠą┐čĆąĄą║ąĖ čĆą░čüčģąŠąČąĄą╝čā ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ ąŠ ┬½ąĮąĄą╣čéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╝┬╗ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ, čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄą╝ ą╗čÄą▒ąŠą│ąŠ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čāą║ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ ą║ąŠčüą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖąĄ ąŠą▒čŖąĄą╝ą░ ą▓čŗą┐čāčüą║ą░ąĄą╝ąŠą╣ ą┐čĆąŠą┤čāą║čåąĖąĖ. ą”ąĄąĮąŠą╣, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą┐ą╗ą░čéąĖčéčī ąĘą░ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĖ ąĘą░ ą╗čÄą▒ąŠąĄ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĖąĄ, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ąŠą▒ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ čüąĮąĖąČąĄąĮąĖąĄą╝ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ąČąĖąĘąĮąĖ ą▓ č鹥čĆą╝ąĖąĮą░čģ čåąĄąĮąĮąŠčüč鹥ą╣, ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ ą▒čāą┤čāčēąĄą│ąŠ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąÜą░ąČą┤čŗą╣ ą░ą║čé ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāąĄčé ą▓ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ąŠčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ą╗ąŠąĄą╝ą║ąĖčģ ąĖ, čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąŠą▓ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ┬½ąĮą░ ą┐ąŠą┤ąĮąŠąČąĮąŠą╝ ą║ąŠčĆą╝čā┬╗.Ōü╣
ąØąĄčéčĆčāą┤ąĮąŠ ą┐čĆąŠąĖą╗ą╗čÄčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī čŹčéąĖčģ ą▓čŗą▓ąŠą┤ąŠą▓ ąĮą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĄ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝ąŠą│ąŠ čüą╗čāčćą░čÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓. ą×č湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, čćč鹊 čéą░ą║ąĖąĄ ą░ą║čéąĖą▓čŗ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčéą░čÄčé ąĖ ą┤ąĄčƹȹ░čé, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ąĮą░ ąĮąĖčģ ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčüčéąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ čåąĄąĮąĮčŗąĄ ą░ą║čéąĖą▓čŗ. ąöąĄąĮčīą│ąĖ ą╗ąĖą▒ąŠ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĮąĄ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčé čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣, ąĖą╝ ą┐čĆąĖčüčāčēąĄą╣ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ąŠą╣ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ (ą║ą░ą║ ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĮąĄąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĮčŗčģ ą▒čāą╝ą░ąČąĮčŗčģ ą┤ąĄąĮąĄą│), ą╗ąĖą▒ąŠ čŹčéą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ą░čÅ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąĮąĄąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮą░ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ąĖčģ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ ą┐čĆąĖ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąĄ (ą║ą░ą║ ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĘąŠą╗ąŠč鹊ą│ąŠ čüčéą░ąĮą┤ą░čĆčéą░, ą│ą┤ąĄ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčé čåąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ, čģąŠčéčÅ ąĖ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣, ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ č鹊ą▓ą░čĆą░). ą”ąĄąĮąĮąŠčüčéčī, ą┐čĆąĖą┤ą░ą▓ą░ąĄą╝ą░čÅ ą┤ąĄąĮčīą│ą░ą╝, ą┐ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓čā čüąŠčüč鹊ąĖčé ą▓ ąĖčģ ą▒čāą┤čāčēąĄą╣ ą┐ąŠą║čāą┐ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ. ąØąŠ ąĄčüą╗ąĖ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą┤ąĄąĮąĄą│ čüąŠčüč鹊ąĖčé ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊ą▒čŗ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī ą┤čĆčāą│ąĖąĄ ą░ą║čéąĖą▓čŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüčéą░ąĮčāčé ą┤ąŠčüčéčāą┐ąĮčŗ ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝, č鹊 čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ čÅčüąĮčŗą╝ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą┤ąĄąĮąĄą│. ąØą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓ą░ąČąĮąŠ č鹊, čćč鹊 ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čü čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéąĖ ą┤ąŠčüčāą│ą░ ąĖ/ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ čéą░ą║ąŠą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ ą┐ąŠą▓čŗčłą░ąĄčé ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮčāčÄ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéčī čŹčéąĖčģ ą▒čāą┤čāčēąĖčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓. ąŁč鹊 ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓ čüąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ čüčéąĖą╝čāą╗ąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ čüčāą▒čŖąĄą║čéą░ ą▓ąĄą┤ąĄčé ą║ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ą░ą╝ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčüčéąĖ čŹčéąĖ ą░ą║čéąĖą▓čŗ ą║ą░ą║ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗčüčéčĆąĄąĄ, čé. ąĄ. čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąŠą▓, ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčēąĖčģ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ. ąĢą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą▓ąĖą┤ąŠą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čüčĆą░ąĘčā ą┤ą░ąĄčé čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠąĄ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖąĄą╝ ą▒čāą┤čāčēąĖčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓ ą║ąŠčüą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čé. ąĄ. ą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą┤ąĄąĮąĄą│, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐čĆčÅą╝ąŠą╣ ąŠą▒ą╝ąĄąĮ. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓ąĖą┤ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ą╗ąĄč湥čé ąĘą░ čüąŠą▒ąŠą╣ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ ąĘą░ą╝ąĄąĮčā ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ, ┬½ą║čĆčāąČąĮąŠą│ąŠ┬╗ ą╝ąĄč鹊ą┤ą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ č湥čĆąĄąĘ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗą╣ ąŠą▒ą╝ąĄąĮ ą▒ą░čĆč鹥čĆąĮąŠą╣ č鹊čĆą│ąŠą▓ą╗ąĄą╣. ąØąŠ, ąŠą┐čÅčéčī-čéą░ą║ąĖ, ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą┐čĆąĖą▒ąĄą│ą░čéčī ą║ ą▒ą░čĆč鹥čĆčā ŌĆö čŹč鹊 ą▓ąĄčĆąĮčŗą╣ ą┐čāčéčī ąĮą░ąĘą░ą┤ ą║ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ą┐čĆąĖą╝ąĖčéąĖą▓ąĖąĘą╝čā ąĖ ą▓ą░čĆą▓ą░čĆčüčéą▓čā. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠč鹊ą╝čā, čćč鹊 ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ą┤ą╗čÅ čåąĄą╗ąĄą╣ ą▒ą░čĆč鹥čĆą░ ą┤ą░ąĄčé ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮąĖąĘą║ąĖą╣ ąŠą▒čŖąĄą╝ ą┐čĆąŠą┤čāą║čåąĖąĖ, č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüčéą▓ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčĆąŠčüą╗ąŠ čŹčéčā čüčéą░ą┤ąĖčÄ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ąĖ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░ąĄčé čüąĖčüč鹥ą╝čā ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą┤ą╗čÅ čåąĄą╗ąĄą╣ ąĮąĄą┐čĆčÅą╝ąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ, čģąŠčéčÅ ąĖ čéčĆąĄą▒čāąĄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ, ą┐čĆąĖąĮąŠčüąĖčé ą│ąŠčĆą░ąĘą┤ąŠ ą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ ąŠčéą┤ą░čćčā ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą│ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓, ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĮčŗčģ ą▓čåąĄą┐ąŠčćą║čā ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗčģ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖą╣. ąÜą░ąČą┤čŗą╣ ą░ą║čé ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ čģąŠą┤ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░, ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮąĮčŗą╣ čłą░ą│ ąĮą░ąĘą░ą┤. ą×ąĮ čüąŠą║čĆą░čēą░ąĄčé ąŠą▒čŖąĄą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, čāą╝ąĄąĮčīčłą░ąĄčé ą│ą╗čāą▒ąĖąĮčā čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ čéčĆčāą┤ą░ ąĖ ą▓ąĄą┤ąĄčé ą║ ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗ąĄąĮąĖčÄ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąĖ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖąĮč鹥ą│čĆą░čåąĖąĖ (ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ, ą║čüčéą░čéąĖ, ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ čüą╝ąŠą│ą╗ą░ ą▒čŗ ą┤ąŠčüčéąĖčćčī ą▓čüąĄą╝ąĖčĆąĮąŠą│ąŠ ą╝ą░čüčłčéą░ą▒ą░, ąĄčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąĮąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčéą░ ąĮąĄą┐čĆčÅą╝čŗčģ, ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗčģ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą▓).
ąæąŠą╗ąĄąĄ č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą░ą║čé ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠčéčŖąĄą╝ą░ ą┤ąĄąĮąĄą│, ą┐ąŠąŠčēčĆčÅčÅ ąŠą▒čēčāčÄ č鹥ąĮą┤ąĄąĮčåąĖčÄ ą║ ąĘą░ą╝ąĄąĮąĄ ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą╝ ąŠą┐ąŠčüčĆąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓, ąĖą╝ąĄąĄčé čéą░ą║ąČąĄ ą▓ą░ąČąĮčŗąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅ ą▓ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą▓ ą┤ąŠą▒čŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┤ąĄąĮąĄą│. ąóą░ą║ ąČąĄ, ą║ą░ą║ ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ąĮąĄ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗčģ ą░ą║čéąĖą▓ąŠą▓, ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░čÄčēą░čÅ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮą░čÅ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéčī ą┤ąĄąĮąĄą│ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠčüčéčīčÄ ą┤ąŠčüčāą│ą░ ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┤ąĄą╗ą░ąĄčé ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĖąĄ ą┤ąĄąĮąĄą│ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╝ąĖ ą┐čāčéčÅą╝ąĖ, čéčĆąĄą▒čāčÄčēąĖą╝ąĖ ą╝ąĄąĮčīčłąĖčģ ąĘą░čéčĆą░čé ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ. ąÆą╝ąĄčüč鹊 ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĖčÅ ąĖčģ ą▓ ąŠą▒ą╝ąĄąĮ ąĮą░ čāčüąĖą╗ąĖčÅ ą┐ąŠ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÄ čåąĄąĮąĮąŠčüč鹥ą╣, čé. ąĄ. ą▓ čĆą░ą╝ą║ą░čģ ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą▓čŗą│ąŠą┤ąĮčŗčģ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą▓, ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ąĄčé čüčéąĖą╝čāą╗ ą║ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖčÄ ą┤ąĄąĮąĄą│ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▒čŗčüčéčĆčŗą╝ąĖ ąĖ ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ąĖ čüą┐ąŠčüąŠą▒ą░ą╝ąĖ, ąĖąĘą▒ąĄą│ą░čÅ čāč鹊ą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą║čĆčāąČąĮąŠą│ąŠ ą┐čāčéąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░. ąĪ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čŹč鹊 ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čćą░čüčéčŗąĄ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ąĖ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖčéčī čüą▓ąŠąĖ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗąĄ ą░ą║čéąĖą▓čŗ, ą┐čĆąŠčüč鹊 čāą║čĆčŗą▓ą░čÅ ąĖčģ ąŠčé čüą▒ąŠčĆčēąĖą║ą░ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓. ąĪ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ą▒čāą┤ąĄčé ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą░čéčī ą▓čüąĄą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░čÄčēąĄąĄ čüčéčĆąĄą╝ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĘą░ą▓ą╗ą░ą┤ąĄčéčī ą┤ąĄąĮčīą│ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠčéčŖąĄą╝ą░, ą║ą░ą║ ą▓ ąĮąĄą╗ąĄą│ą░ą╗čīąĮąŠą╣ č乊čĆą╝ąĄ, ąĖą╝ąĄąĮčāąĄą╝ąŠą╣ ą▓ąŠčĆąŠą▓čüčéą▓ąŠą╝, čéą░ą║ ąĖ ą▓ ą╗ąĄą│ą░ą╗čīąĮąŠą╣, ą┐čāč鹥ą╝ čāčćą░čüčéąĖčÅ ą▓ ąĖą│čĆąĄ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąŠą╣.
ąŚą░ą▓ąĄčĆčłą░čÅ čŹč鹊čé ąŠą▒čēąĖą╣ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą░ą▓č鹊čĆčŗ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗčģ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ąŠą▓ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ąĖ, ą║ą░ą║ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠ, ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćąĖčéą░čÄčé ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĮąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčī, čÅ čģąŠč鹥ą╗ ą▒čŗ ąŠą▒čĆą░čéąĖčéčīčüčÅ ą║ č鹊ą╝čā, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅčģ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠą┤ čĆčāą▒čĆąĖą║ąŠą╣ ┬½čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ┬╗. ąÆ čüą▓ąĄč鹥 ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░ ą▒čāą┤ąĄčé ąĮąĄčéčĆčāą┤ąĮąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖčéčī ą│ą╗čāą▒ąŠą║ąĖą╣ ąĖąĘčŖčÅąĮ ą▓ ąĖčģ ąĖąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ. ąś ąĮąĄčé ąĮąĖč湥ą│ąŠ čāą┤ąĖą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĄčüą╗ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠčéčĆčāą┤ąĖčéčīčüčÅ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░čéčī ąŠčüąĮąŠą▓čŗ, č鹊 ą╝ąŠąČąĮąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ ą▓ą┐ą░čüčéčī ą▓ ąŠčłąĖą▒ą║čā ą┐čĆąĖ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖąĖ čćą░čüčéąĮčŗčģ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüąŠą▓.
ąĪčéą░ąĮą┤ą░čĆčéąĮąŠąĄ ąĖąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čćą░čēąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąĖą╗ą╗čÄčüčéčĆąĖčĆčāąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąŠą╝ ą░ą║čåąĖąĘą░ ąĖą╗ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ čü ą┐čĆąŠą┤ą░ąČ. ąĀą░čüčüčāąČą┤ą░čÄčé ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝.┬╣Ōü░┬Āą¤čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą╝, čćč鹊 ą▓ą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ (ąĖą╗ąĖ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ) ą░ą║čåąĖąĘ ąĖą╗ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ čü ą┐čĆąŠą┤ą░ąČ. ąÜč鹊 ą┐ąŠąĮąĄčüąĄčé ąĖčģ ą▒čĆąĄą╝čÅ? ą¤čĆąĖąĘąĮą░ąĄčéčüčÅ ŌĆö ąĖ čÅ, čĆą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅ, ąĮąĄ ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄąĮ ąŠčüą┐ą░čĆąĖą▓ą░čéčī ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī čŹč鹊ą│ąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖčÅ, ŌĆö čćč鹊 ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĖ ą▓ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī ąĮą░ čüąĄą▒čÅ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╣ čāą┤ą░čĆ. ąÆąĄą┤čī ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠ ąŠčé čüą┐ąĄčåąĖčäąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖą╣ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ ą╗ąĖą▒ąŠ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĖ ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮčŗ ą▒čāą┤čāčé ą┐ą╗ą░čéąĖčéčī ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║čāčÄ čåąĄąĮčā ąĘą░ č鹥 ąČąĄ čüą░ą╝čŗąĄ č鹊ą▓ą░čĆčŗ, ąĖ ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąĖčģ ąČąĖąĘąĮąĖ čüąĮąĖąĘąĖčéčüčÅ, ą╗ąĖą▒ąŠ ąČąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖčé ąĖąĘą┤ąĄčƹȹ║ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅ, ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĖ ąŠą┐čÅčéčī-čéą░ą║ąĖ ą▒čāą┤čāčé čāčēąĄą╝ą╗ąĄąĮčŗ, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▒čāą┤ąĄčé ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮąŠ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ ą┐čĆąŠą┤čāą║čåąĖąĖ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┤ą░ą╗ąĄąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ąĄčéčüčÅ ŌĆö ąĖ čü čŹčéąĖą╝ ą╝čŗ ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄ čüąŠą│ą╗ą░čüąĮčŗ, ŌĆö čćč鹊 ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąŠ č鹊ą╝, ą║ą░ą║ąĖą╝ ąĖąĘ čŹčéąĖčģ ą┤ą▓čāčģ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą▓ ąĮą░ąĮąŠčüąĖčéčüčÅ čāčēąĄčĆą▒ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čÅą╝, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąŠčéą║čĆčŗčéčŗą╝ 菹╝ą┐ąĖčĆąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüąŠą╝, ąŠčéą▓ąĄčé ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖčé ąŠčé 菹╗ą░čüčéąĖčćąĮąŠčüčéąĖ čüą┐čĆąŠčüą░ ąĮą░ ąŠą▒ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą╝ č鹊ą▓ą░čĆčŗ. ąĢčüą╗ąĖ čüą┐čĆąŠčü ą▓ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ąĮąĄčŹą╗ą░čüčéąĖč湥ąĮ, č鹊 ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĖ ą▒čāą┤čāčé ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░čéčī ą▒čĆąĄą╝čÅ ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ą▓ č乊čĆą╝ąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ čåąĄąĮ. ąĢčüą╗ąĖ čüą┐čĆąŠčü ą▓čŗčüąŠą║ąŠčŹą╗ą░čüčéąĖč湥ąĮ, č鹊 ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĖ ą┐čĆąĖą╝čāčé ąĮą░ čüąĄą▒čÅ ą▒čĆąĄą╝čÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ ą▓ č乊čĆą╝ąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹĄą║ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░. ąĢčüą╗ąĖ ąČąĄ ą║ą░ą║ąŠą╣-č鹊 čüąĄą│ą╝ąĄąĮčé ą║čĆąĖą▓ąŠą╣ čüą┐čĆąŠčüą░ ąĮąĄčŹą╗ą░čüčéąĖč湥ąĮ, ą░ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ 菹╗ą░čüčéąĖč湥ąĮ ŌĆö ąĖ čŹč鹊 čÅą║ąŠą▒čŗ 菹╝ą┐ąĖčĆąĖč湥čüą║ąĖ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮčŗą╣ čüą╗čāčćą░ą╣, ŌĆö č鹊 ą▒čĆąĄą╝čÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĖčéčüčÅ ą╝ąĄąČą┤čā ąĮąĖą╝ąĖ: čćą░čüčéčī ąĄą│ąŠ ą┐ą░ą┤ą░ąĄčé ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣, ą░ ą┤čĆčāą│ą░čÅ ŌĆö ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣.
ąÆ č湥ą╝ ąŠčłąĖą▒ą║ą░ čŹč鹊ą│ąŠ čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖčÅ? ąźąŠčéčÅ ąŠąĮąŠ ąĖ čüč乊čĆą╝čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąŠ ą▓ č鹥čĆą╝ąĖąĮą░čģ, ąŠčéą╗ąĖčćąĮčŗčģ ąŠčé č鹥čģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ ą▓ ą┐čĆąĄą┤čłąĄčüčéą▓čāčÄčēąĄą╝ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘąĄ, ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ąĮąĄ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖčéčī, čćč鹊 ąŠąĮąŠ ą┐čĆąŠčüč鹊 čćą░čüčéąĮčŗą╣ čüą╗čāčćą░ą╣ čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠčüčéčī ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ čāąČąĄ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąŠą┤ąĄą╝ąŠąĮčüčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ąĮą░ ą▓ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąŠą▒čēąĄą╝ ą▓ąĖą┤ąĄ: ą░ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ, č鹥ąĘąĖčü ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ ą╝ąŠą│čāčé ą▓ąĄčüčéąĖ, ą░ ą╝ąŠą│čāčé ąĖ ąĮąĄ ą▓ąĄčüčéąĖ ą║ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖčÄ ąŠą▒čŖąĄą╝ąŠą▓ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░; čćč鹊 ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮą░čÅ čüą▓čÅąĘčī ą╝ąĄąČą┤čā ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ą╝ąĖ ąĖ ą▓čŗą┐čāčüą║ąŠą╝ ą┐čĆąŠą┤čāą║čåąĖąĖ; ąĖ čćč鹊 菹╝ą┐ąĖčĆąĖč湥čüą║ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮą░ čüąĖčéčāą░čåąĖčÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮą░ą╗ąŠą│ ąĘą░čéčĆą░ą│ąĖą▓ą░ąĄčé ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĄčé ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ. ą¤čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čéčī, ą║ą░ą║ čŹč鹊 ą┤ąĄą╗ą░ąĄčéčüčÅ ą▓ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ą░čģ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ąŠą▓ ąŠ čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ, čćč鹊 ąŠąĮąŠ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čåąĄą╗ąĖą║ąŠą╝ ąĖą╗ąĖ čćą░čüčéąĖčćąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąŠąČąĄąĮąŠ ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣, ą┐čĆąŠčüč鹊 ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ ą╝ąŠąČąĄčé ąĮąĄ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čéčī ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ. ąóąŠ ąĄčüčéčī ąĄčüą╗ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąŠąČąĖčéčī ą╗čÄą▒čāčÄ čüčāą╝ą╝čā ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣, č鹊 čŹčéą░ čüčāą╝ą╝ą░ ą▒čāą┤ąĄčé ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī čüąŠą▒ąŠą╣ ┬½ąĮą░ą╗ąŠą│, ąĮąĄ ąĘą░čéčĆą░ą│ąĖą▓ą░čÄčēąĖą╣ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ┬╗, ąĮą░ą╗ąŠą│ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ.┬╣┬╣
ą¦č鹊ą▒čŗ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ąĮčāčéčī ąŠą▒čŗčćąĮčŗąĄ čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čēąĖąĄčüčÅ ą▓ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ą░čģ, ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą┐čĆąŠčüč鹊 ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĮąĖčéčī čüą┤ąĄą╗ą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓čŗčłąĄ ą▓čŗą▓ąŠą┤, čćč鹊 ą╗čÄą▒ąŠą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąŠą▒ą╗ą░ą│ą░čÄčéčüčÅ ą╗čÄą┤ąĖ čü ąĮąĄąĮčāą╗ąĄą▓čŗą╝ąĖ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćč鹥ąĮąĖčÅą╝ąĖ, ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ, čüą▓ąĄčĆčģ ąĖ ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠ ąŠčé ą╗čÄą▒čŗčģ ąĮąĄą│ą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖą╣ ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąÆ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ, ą┤ą╗čÅ ą┤ąŠą║ą░ąĘą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą┐ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓čā č鹊ą│ąŠ ąČąĄ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ č鹥ąĘąĖčüą░ čÅ ą┐čĆąĖą▒ąĄą│ąĮčā ą║ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĖąĮąŠą╝čā čüą┐ąŠčüąŠą▒čā ą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčéą░čåąĖąĖ ąĖ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ąŠą▒ąŠčüąĮčāčÄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čćą░čüčéąĮčŗą╣ č鹥ąĘąĖčü, ą░ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ: ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ ąĮąĖ ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣ čüą▓ąŠąĄą╣ čćą░čüčéąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ą┐ąĄčĆąĄą╗ąŠąČąĄąĮ ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣. ąöąŠą┐čāčüčéąĖčéčī ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąŠąĄ ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░čéčī ąĮąĄčćč鹊 ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠąĄ.
ąÉą▒čüčāčĆą┤ąĮąŠčüčéčī ą┤ąŠą║čéčĆąĖąĮčŗ ┬½ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĮą░ ą┐ąŠą║čāą┐ą░č鹥ą╗čÅ┬╗ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ čÅčüąĮąŠą╣, ą║ą░ą║ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą╝čŗ ą┐ąŠą┐čŗčéą░ąĄą╝čüčÅ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĖčéčī ąĄąĄ ą║ čüą╗čāčćą░čÄ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ ą▓čŗčüčéčāą┐ą░ąĄčé ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ą▓ ą┤ą▓čāčģ čĆąŠą╗čÅčģ ŌĆö ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅ ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čÅ. ąöą╗čÅ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅ-ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čÅ ą┤ąŠą║čéčĆąĖąĮą░ čüą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą║ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą╝čā čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖčÄ: ąĄčüą╗ąĖ ąŠąĮ čüčéą░ą╗ą║ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ čü čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄą╝ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹĄą║ ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĖčÅ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą▒ą╗ą░ą│ą░ ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝ ŌĆö čé. ąĄ. čü čéą░ą║ąĖą╝ čüąŠą▒čŗčéąĖąĄą╝, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ąŠąĮ čüą░ą╝ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ąĄčé ą║ą░ą║ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ąĄą│ąŠ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹĄą║, ŌĆö č鹊 ąŠąĮ ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĄčé čŹčéąĖ ą▓ąŠąĘčĆąŠčüčłąĖąĄ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹ║ąĖ ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ čüąĄą▒čÅ, ą┐čĆąĖą┐ąĖčüčŗą▓ą░čÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖą╝ąŠą╝čā ą▒ą╗ą░ą│čā ą┐čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║čāčÄ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčī, čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░čÅ ą┐čĆąĄąČąĮčÄčÄ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮčā ą┐čĆąĖą▒čŗą╗ąĖ. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤ ąĮąĄ ą┐čĆąĄč鹥čĆą┐ąĄą▓ą░ąĄčé ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ čāčēąĄčĆą▒ą░ ą▓ čüą▓ąŠąĄą╣ čĆąŠą╗ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅ, ą░ ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüą░ą▒ą╗ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą║ ąĮąŠą▓čŗą╝ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅą╝ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓ čüą▓ąŠąĄą╣ čĆąŠą╗ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čÅ. ąśą╗ąĖ, ą▓ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąČąĄčüčéą║ąŠą╣ č乊čĆą╝čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą║ąĄ, ąĮą░ą╗ąŠą│ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą┤ą╗čÅ čéą░ą║ąŠą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ą║ą░čüą░ąĄčéčüčÅ ąĄą│ąŠ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓čā čåąĄąĮąĮąŠčüč鹥ą╣, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąĄą│ąŠ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čéčī ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖą╝čŗą╝ąĖ ą▒ą╗ą░ą│ą░ą╝ąĖ ą┐čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠ čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ.
ą¤čĆąŠčüč鹊ąĄ čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé, čćč鹊 čŹč鹊čé ą░ą▒čüčāčĆą┤ ą▓čŗč鹥ą║ą░ąĄčé ąĖąĘ čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐čāčéą░ąĮąĖčåčŗ ą▓ ą┐ąŠąĮčÅčéąĖčÅčģ. ąöąŠą║čéčĆąĖąĮą░ ┬½ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĮą░ ą┐ąŠą║čāą┐ą░č鹥ą╗čÅ┬╗ ą┐čĆąŠąĖčüč鹥ą║ą░ąĄčé ąĖąĘ ąĮąĄą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ą┐čĆąĖ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘąĄ ąĮčāąČąĮąŠ čüčćąĖčéą░čéčī čüą┐čĆąŠčü ąĘą░ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ąĖ čćč鹊 čŹčéą░ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčüčŗą╗ą║ą░ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ą░, čéą░ą║ ą║ą░ą║ čäą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ čüą┐čĆąŠčü čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĘą░ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ ą┤ą╗čÅ ą╗čÄą▒ąŠą│ąŠ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ. ąøčÄą▒ąŠą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ, čāą┐čāčüą║ą░čÄčēąĖą╣ ąĖąĘ ą▓ąĖą┤čā čŹč鹊 ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ, čü ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠčüčéčīčÄ ąĘą░čģąŠą┤ąĖčé ą▓ čéčāą┐ąĖą║. ą¤ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ąĄčüą╗ąĖ ą┤ąŠą┐čāčüčéąĖčéčī, čćč鹊 čüą┐čĆąŠčü ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖą╗čüčÅ, č鹊 ą▓čüąĄ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝: ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ą╝ąŠąČąĄčé ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéąĖ, čüąŠą║čĆą░čéąĖčéčīčüčÅ ąĖą╗ąĖ ąŠčüčéą░čéčīčüčÅ ąĮą░ č鹊ą╝ ąČąĄ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ. ąĢčüą╗ąĖ čÅ, ą║ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆčā, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠąČčā čćą░ą╣, ąĖ čŹč鹊čé č鹊ą▓ą░čĆ ąŠą▒ą╗ąŠąČąĖą╗ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą╝, ąĖ ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ą▓ąŠąĘčĆąŠčü ąĖ čüą┐čĆąŠčü ąĮą░ čćą░ą╣ ą┐čĆąĖ ą╗čÄą▒ąŠą╣ čåąĄąĮąĄ (čé.ąĄ.čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą╗ą░čüčī čäčāąĮą║čåąĖčÅ čüą┐čĆąŠčüą░), č鹊, čĆą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅ, ą╝ąŠąČąĄčé ąŠą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ ąĖ čéą░ą║, čćč鹊 ą╗čÄą┤ąĖ ą▒čāą┤čāčé ą│ąŠč鹊ą▓čŗ ąĘą░ą┐ą╗ą░čéąĖčéčī ąĘą░ čćą░ą╣ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║čāčÄ čåąĄąĮčā, č湥ą╝ ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ. ąØąŠ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ čÅčüąĮąŠ, čćč鹊 čŹč鹊 ą▒čāą┤ąĄčé ąĮąĄ ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čÅ, ą░ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹊ą╝ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ čüą┐čĆąŠčüą░. ą¤ąŠą╝ąĄčēą░čéčī čŹč鹊čé čüą╗čāčćą░ą╣ ą┐ąŠą┤ čĆčāą▒čĆąĖą║ąŠą╣ ┬½ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ┬╗ ŌĆö ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ ąĮąŠąĮčüąĄąĮčü. ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ ąĘą┤ąĄčüčī čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü, ą░ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąŠ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĖ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ čüą┐čĆąŠčüą░ ąĮą░ čåąĄąĮčā, ąĖ ąŠąĮ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ ą║ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ. ą¦č鹊ą▒čŗ ąŠčåąĄąĮąĖčéčī, čüą║ąŠą╗čī ą▓ąĄą╗ąĖą║ą░ ąĘą┤ąĄčüčī ą┐čāčéą░ąĮąĖčåą░, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓čīč鹥 čüąĄą▒ąĄ, čćč鹊 ą▓čŗ čüč鹊ą╗ą║ąĮčāą╗ąĖčüčī čüąŠ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčƹȹĄąĮąĖąĄą╝ ą░čĆąĖčäą╝ąĄčéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖčÅ, čćč鹊 ąĄčüą╗ąĖ ą║ ąŠą┤ąĮąŠą╝čā čÅą▒ą╗ąŠą║čā ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖčéčī ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĮąŠ, č鹊 ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčüčÅ ą┤ą▓ą░: ┬½ąØąĄčé, čÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊 ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖą╗ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĮąŠ, ąĖ čüą╝ąŠčéčĆąĖč鹥, ąĘą┤ąĄčüčī čāąČąĄ ąĮąĄ ą┤ą▓ą░, ą░ čéčĆąĖ čÅą▒ą╗ąŠą║ą░┬╗. ąÆ ą╝ą░č鹥ą╝ą░čéąĖą║ąĄ čéą░ą║ą░čÅ č湥ą┐čāčģą░ ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ ąŠčüčéą░ą╗ą░čüčī ą▒čŗ ąĮąĄąĘą░ą╝ąĄč湥ąĮąĮąŠą╣, ąĮąŠ ą▓ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ąĄ ąĮąĖčćčāčéčī ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ą░ą▒čüčāčĆą┤ąĮą░čÅ ą┤ąŠą║čéčĆąĖąĮą░ ąĖą╝ąĄąĄčé čüčéą░čéčāčü ąŠčĆč鹊ą┤ąŠą║čüąĖąĖ.
ąĢčüą╗ąĖ ąČąĄ ą┐čĆąĖ ąŠčéą▓ąĄč鹥 ąĮą░ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü, ą▒čāą┤ąĄčé ą╗ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠąĄ ą▒čĆąĄą╝čÅ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąŠąČąĄąĮąŠ ąĮą░ ą┐ąŠą║čāą┐ą░č鹥ą╗čÅ, ąĖčüčģąŠą┤ąĖčéčī ąĖąĘ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ čüčćąĖčéą░čéčī čüą┐čĆąŠčü ąĘą░čäąĖą║čüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╝, č鹊 ą╗čÄą▒ąŠą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ ąĮą░ą┤ąŠ ąĖąĮč鹥čĆą┐čĆąĄčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą║ą░ą║ čüąŠą▒čŗčéąĖąĄ, ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčēąĄąĄ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ: ąĮą░ą╗ąŠą│ čüąŠą║čĆą░čēą░ąĄčé ąĘą░ą┐ą░čüčŗ č鹊ą▓ą░čĆąŠą▓ ą▓ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą┐čĆąŠą┤ą░ą▓čåąŠą▓┬╣┬▓. ąøčÄą▒ąŠą╣ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ą▓čŗą▓ąŠą┤ ą▒čŗą╗ ą▒čŗ ąŠčéčĆąĖčåą░ąĮąĖąĄą╝ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī čü čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ąĮą░čćą░ą╗ą░, ą░ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ ą▒čŗą╗ ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮ ąĖ čćč鹊 ąŠąĮ ąŠčüąŠąĘąĮą░ąĄčéčüčÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ą║ą░ą║ čéą░ą║ąŠą▓ąŠą╣. ąØąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░čéčī, čćč鹊 ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčüčÅ ą╗ąĖčłčī ą║čĆąĖą▓ą░čÅ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ (ą║čĆąĖą▓ą░čÅ čüą┐čĆąŠčüą░ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ č鹊ą╣ ąČąĄ, čćč鹊 ąĖ ą┤ąŠ ąĖąĘčŖčÅčéąĖčÅ), ŌĆö ąĘąĮą░čćąĖčé čüąŠą│ą╗ą░čüąĖčéčīčüčÅ čü č鹥ą╝, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠąĄ ą▒čĆąĄą╝čÅ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ą╗čÅąČąĄčé ąĮą░ ą┐ąŠčüčéą░ą▓čēąĖą║ąŠą▓. ąÜąŠąĮąĄčćąĮąŠ, čüą┤ą▓ąĖą│ ą║čĆąĖą▓ąŠą╣ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ą╗ąĄą▓ąŠ ą╝ąŠąČąĄčé čüčéą░čéčī ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ čĆąŠčüčéą░ čåąĄąĮ, ąĖ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĖ, čĆą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅ, ą╝ąŠą│čāčé ąŠą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ čāčēąĄą╝ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąĖą╝ ą┐čĆąĖą┤ąĄčéčüčÅ ą┐ą╗ą░čéąĖčéčī ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║čāčÄ čåąĄąĮčā, ąĖ ąŠąĮąĖ čüą╝ąŠą│čāčé ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖčéčī čüąĄą▒ąĄ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčüčéąĖ ą┐ąŠ ąĮąŠą▓ąŠą╣ čåąĄąĮąĄ ą╗ąĖčłčī ą╝ąĄąĮčīčłąĄąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ č鹊ą▓ą░čĆąŠą▓┬╣┬│. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ, ą║ą░ą║ ą╝čŗ ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╝, č鹊čé čäą░ą║čé, čćč鹊 ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĖ ąĮąĄąĖąĘą╝ąĄąĮąĮąŠ čāčēąĄą╝ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ą╝ąĖ, ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│ą░ą╗čüčÅ ąĮąĖ ą╝ą░ą╗ąĄą╣čłąĄą╝čā čüąŠą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ. ąØąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ ąĘą░ą▒ą╗čāąČą┤ąĄąĮąĖąĄą╝ čüčćąĖčéą░čéčī, čćč鹊 ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ą░čÅ čåąĄąĮą░ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄą╝ ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čü ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣. ą¤čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮąĄąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ čüą║ą░ąĘą░čéčī, čćč鹊 ą▓ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĖ čüčéčĆą░ą┤ą░čÄčé ┬½ą┐čĆąŠčüč鹊┬╗ ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ čāčēąĄčĆą▒ą░, ąĮą░ąĮąĄčüąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖąĄ čåąĄąĮčŗ ąĘą░ čüą▓ąŠąĖ č鹊ą▓ą░čĆčŗ, ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮčŗ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī ąĮą░ čüąĄą▒čÅ ą▓čüčÄ čüąĖą╗čā čāą┤ą░čĆą░┬╣Ōü┤. ąĪą╗ąĄą┤čāąĄčé ąĘą░ą┤ą░čéčī čüąĄą▒ąĄ ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü: ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čī ąĖ ą▓ą┐čĆą░ą▓ą┤čā ąĖą╝ąĄą╗ ą▒čŗ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┐ąĄčĆąĄą╗ąŠąČąĖčéčī ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčāčÄ čćą░čüčéčī ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čü čüąĄą▒čÅ ąĮą░ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣, ą┐ąŠč湥ą╝čā ąČąĄ ąŠąĮ ąĮąĄ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ čŹč鹊ą│ąŠ čĆą░ąĮčīčłąĄ, ┬½ąŠą▒ą╗ąŠąČąĖą▓┬╗ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ čüąĄą▒čÅ ┬½ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą╝┬╗, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 č鹊ą│ąŠ čćč鹊ą▒čŗ ąČą┤ą░čéčī ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą│ąŠ ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░? ą×čéą▓ąĄčé ą┐čĆąŠčüčé: ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅčģ ą┐ąŠ ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÄ čåąĄąĮ ąŠąĮ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čüą▓čÅąĘą░ąĮ čäą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖą╝ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄą╝ čüą┐čĆąŠčüą░. ąøčÄą▒ą░čÅ čåąĄąĮą░ ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗ąĄą╝ ą▓ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ, čćč鹊 ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ą░čÅ čåąĄąĮą░ ą┐čĆąĖąĮąĄčüąĄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĮąĖąĘą║ąĖą╣ čüčāą╝ą╝ą░čĆąĮčŗą╣ ą┤ąŠčģąŠą┤. ąÆ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąĄčüą╗ąĖ ą▒čŗ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čī ąŠąČąĖą┤ą░ą╗, čćč鹊 ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ą░čÅ čåąĄąĮą░ ą┐čĆąĖąĮąĄčüąĄčé ą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ ą▓čŗčĆčāčćą║čā, ąŠąĮ ą▒čŗ ąĄąĄ ą┐ąŠą▓čŗčüąĖą╗. ąĢčüą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čī čüčćąĖčéą░ąĄčé, čćč鹊 čüą┐čĆąŠčü ąĮąĄčŹą╗ą░čüčéąĖč湥ąĮ ą▓ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ą░čģ čüąĄą│ą╝ąĄąĮčéą░ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗčģ čåąĄąĮąŠą▓čŗčģ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖą╣, ąŠąĮ ą▓ąŠčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ čŹčéąĖą╝ ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąŠą╝ ąĖ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║čāčÄ čåąĄąĮčā. ą×ąĮ ą┐ąĄčĆąĄčüčéą░ąĄčé ą┐ąŠą▓čŗčłą░čéčī čåąĄąĮčā ąĖ ąŠčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ąĮą░ ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāč鹊ą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ č鹊ą│ą┤ą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĄą│ąŠ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ ą╝ąĄąĮčÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮčŗąĄ, ąĖ ąŠąĮ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčé ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čéčī, čćč鹊 ą┐čĆąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ čåąĄąĮą░čģ ą║čĆąĖą▓ą░čÅ čüą┐čĆąŠčüą░ čāą┐ą░ą┤ąĄčé. ąŁčéąĖ ąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮąĄčŹą╗ą░čüčéąĖčćąĮčŗčģ ąĖ 菹╗ą░čüčéąĖčćąĮčŗčģ čāčćą░čüčéą║ąŠą▓ ą║čĆąĖą▓ąŠą╣ čüą┐čĆąŠčüą░ ąĮąĖčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ ąĖąĘą╝ąĄąĮčÅčéčüčÅ, ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čī čüč鹊ą╗ą║ąĮąĄčéčüčÅ čü ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčīčÄ ą┐ą╗ą░čéąĖčéčī ąĮą░ą╗ąŠą│. ąÜą░ą║ ąĖ ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ, ąŠąĮ ąŠąČąĖą┤ą░ąĄčé, čćč鹊 ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ą░čÅ čåąĄąĮą░ ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄčé ą║ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖčÄ ą┤ąŠčģąŠą┤ą░. ąóąĄą╝ čüą░ą╝čŗą╝ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ čüąĮąĖą╝ą░ąĄčéčüčÅ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čī ą╝ąŠą│ ą▒čŗ ąĖąĘą▒ąĄąČą░čéčī ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ. ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, ąĄčüą╗ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī čåąĄąĮą░ ą▓čŗčĆą░čüč鹥čé ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ąŠąĮą░ ąŠą║ą░ąČąĄčéčüčÅ ą▓ čĆą░ą╝ą║ą░čģ čüąĄą│ą╝ąĄąĮčéą░ 菹╗ą░čüčéąĖčćąĮąŠčüčéąĖ ą║čĆąĖą▓ąŠą╣ čüą┐čĆąŠčüą░, ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čī, čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ą▒čāą┤ąĄčé ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮ ąĘą░ą┐ą╗ą░čéąĖčéčī ąĘą░ čŹč鹊 ą┐ąŠą╗ąĮčāčÄ čåąĄąĮčā ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ ą▓čŗčĆčāčćą║ąĖ. ąøčÄą▒ąŠą╣ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ą▓čŗą▓ąŠą┤ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄčüąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗ąĄąĮ. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▓ č鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čī ąŠąČąĖą┤ą░ąĄčé, čćč鹊 ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čü ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ą░ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠą╣ą┤ąĄčé ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ čüą┐čĆąŠčüą░, ąŠąĮ čüą╝ąŠąČąĄčé ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčī čåąĄąĮčā ąĖ ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąĮąĄ ą┐ąŠč鹥čĆą┐ąĄčéčī čāą▒čŗčéą║ąŠą▓. ąĢčüą╗ąĖ ąŠąĮ, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ąŠąČąĖą┤ą░ąĄčé, čćč鹊 čüą┐čĆąŠčü ą▒čāą┤ąĄčé čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░čéčīčüčÅ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čćč鹊 ąĮčŗąĮąĄčłąĮčÅčÅ čåąĄąĮą░ ąŠą║ą░ąČąĄčéčüčÅ ąĮą░ čāčćą░čüčéą║ąĄ ąĮąĄčŹą╗ą░čüčéąĖčćąĮąŠčüčéąĖ ą║čĆąĖą▓ąŠą╣ čüą┐čĆąŠčüą░, ąŠąĮ čüą╝ąŠąČąĄčé ą▒ąĄąĘąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĮąŠ ąĄąĄ ą┐ąŠą▓čŗčüąĖčéčī. ąØąŠ, ą┐ąŠą┤č湥čĆą║ąĮčā ąĄčēąĄ čĆą░ąĘ, čŹč鹊 ąĮąĄ ą▒čāą┤ąĄčé ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĮą░ ą┐ąŠą║čāą┐ą░č鹥ą╗čÅ. ąĪ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą╝ ąĖą╗ąĖ ą▒ąĄąĘ ąĮąĄą│ąŠ, ąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░č鹥ą╗čī ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāąĄčé ą▓ č鹊čćąĮąŠčüčéąĖ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓čŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝. ąØą░ą╗ąŠą│ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ ą║ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅą╝ čåąĄąĮ. ąÆ ą╗čÄą▒ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ąŠąĮ ą▒čāą┤ąĄčé ąĘą░ą┐ą╗ą░č湥ąĮ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐čĆąŠą┤ą░ą▓čåą░ą╝ąĖ ąŠą▒ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗčģ č鹊ą▓ą░čĆąŠą▓.┬╣ŌüĄ
2. ąĪąŠčåąĖąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ
ąśčéą░ą║, ą▓ąĮąĄ ą▓čüčÅą║ąŠą│ąŠ čüąŠą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ, ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ čü ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠčüčéčīčÄ ą▓ąĄą┤čāčé ą║ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĮąĖąĘą║ąŠą╝čā čāčĆąŠą▓ąĮčÄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü č鹥ą╝ ŌĆö ą║ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖčÄ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ąČąĖąĘąĮąĖ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ą▓ ąĖčģ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣. ąÜą░ą║ ą▒čŗ ąĮąĖ čüčéčĆąŠąĖčéčī ą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčéą░čåąĖčÄ, ą╝čŗ čü ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠčüčéčīčÄ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╝ ą║ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖčÄ, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĄčüčéčī ąĮąĄ čćč鹊 ąĖąĮąŠąĄ, ą║ą░ą║ ą┐čĆąĄą┐čÅčéčüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ ą┐čāčéąĖ čüąŠąĘąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░ ąĖ ą▓čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ŌĆö ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ąĄą┤ąĮąĄąĮąĖčÅ.
ąŁč鹊 ą┐ąŠą┤ą▓ąŠą┤ąĖčé ąĮą░čü ą║ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ č鹥ą╝ąĄ ŌĆö čüąŠčåąĖąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ. ąĢčüą╗ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąŠčĆčāą┤ąĖąĄą╝ čĆą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĖčÅ, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░, č鹊 čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ čüąŠ ą▓čüąĄą╣ ąŠčüčéčĆąŠč鹊ą╣ ą▓čüčéą░ąĄčé ą▓ąŠą┐čĆąŠčü: č湥ą╝ ąČąĄ č鹊ą│ą┤ą░ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī č鹊, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé? ą¤ąŠč湥ą╝čā ąĄą│ąŠ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ? ąÆ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ą┐ąŠč湥ą╝čā ą╝čŗ ą┐ąĄčĆąĄąČąĖą▓ą░ąĄą╝, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ąĮą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ čüčéą░ ą╗ąĄčé, ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠąĄ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠą│ąŠ, ąĮąŠ ąĖ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ? ąś ą┐ąŠč湥ą╝čā ąĖąĮčüčéąĖčéčāčéčŗ, ą╗ąĖą┤ąĖčĆčāčÄčēąĖąĄ ą▓ čŹč鹊ą╝ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ, čé.ąĄ. ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓čŗąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąŚą░ą┐ą░ą┤ą░, ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčé ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąĖą╗čīąĮčŗąĄ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ ąĮą░ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą░čĆąĄąĮąĄ ąĖ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą┤ąŠą╝ąĖąĮąĖčĆčāčÄčé ąĮą░ą┤ ą▓čüąĄą╝ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą╝ąĖčĆąŠą╝?
ąŚą░ą┤ą░ą▓ čŹčéąĖ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ, ą╝čŗ ą┐ąŠą║ąĖą┤ą░ąĄą╝ čüč乥čĆčā 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ č鹥ąŠčĆąĖąĖ. ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮčÅčÅ ąŠčéą▓ąĄčćą░ąĄčé ąĮą░ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü: ┬½ąĢčüą╗ąĖ ą▓ą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ, č鹊 ą║ą░ą║ąŠą▓čŗ ą▒čāą┤čāčé ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅ čŹč鹊ą│ąŠ?┬╗ ŌĆö ąĖ ą▓čŗą▓ąŠą┤ąĖčé čüą▓ąŠą╣ ąŠčéą▓ąĄčé ąĖąĘ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ čüą╝čŗčüą╗ą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąŠą╣ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąĖąĘ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ čüą╝čŗčüą╗ą░ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą║ą░ą║ čćą░čüčéąĮąŠą│ąŠ čüą╗čāčćą░čÅ čéą░ą║ąŠą▓ąŠą╣. ąÆąŠą┐čĆąŠčü ąŠ č鹊ą╝,┬Āą┐ąŠč湥ą╝čā┬ĀčüčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčé ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ, ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĖčé ą║ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ą┐čüąĖčģąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ, ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąĖą╗ąĖ čüąŠčåąĖąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ. ąŁą║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ą░, č鹊čćąĮąĄąĄ ą┐čĆą░ą║čüąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ, ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĄčé, čćč鹊 ą▓čüąĄ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĖą┤ąĄčÅą╝ąĖ, ą▓ąĄčĆąĮčŗą╝ąĖ ąĖą╗ąĖ ąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮčŗą╝ąĖ, čģąŠčĆąŠčłąĖą╝ąĖ ąĖą╗ąĖ ą┐ą╗ąŠčģąĖą╝ąĖ. ąØąŠ ąŠąĮą░ ąĮąĄ ą┐čŗčéą░ąĄčéčüčÅ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī, ą║ą░ą║ąŠą▓čŗ čŹčéąĖ ąĖą┤ąĄąĖ ąĖ ą║ą░ą║ ą╗čÄą┤ąĖ ą┐čĆąĖčģąŠą┤čÅčé ą║ ąĮąĖą╝ ąĖą╗ąĖ ą╝ąĄąĮčÅčÄčé ąĖčģ. ąŁą║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ą░čÅ č鹥ąŠčĆąĖčÅ, ąĮą░ą┐čĆąŠčéąĖą▓, čüčćąĖčéą░ąĄčé ąĖčģ ąĘą░ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĖ čüčéčĆąĄą╝ąĖčéčüčÅ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖąĄ čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅ, ą▓čŗč鹥ą║ą░čÄčēąĖąĄ ąĖąĘ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ą╗čÄą┤ąĖ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčé ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ čŹčéąĖčģ ąĖą┤ąĄą╣, ą║ą░ą║ąŠą▓čŗ ą▒čŗ ąŠąĮąĖ ąĮąĖ ą▒čŗą╗ąĖ. ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ąĖ čüąŠčåąĖąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ, čüąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ąĘą░ą┤ą░čÄčéčüčÅ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüąŠą╝ ąŠ č鹊ą╝, ą║ą░ą║ąŠą▓čŗ čŹčéąĖ ąĖą┤ąĄąĖ, ą║ą░ą║ ą╗čÄą┤ąĖ ą┐čĆąĖčģąŠą┤čÅčé ą║ ąĮąĖą╝ ąĖ ą┐ąŠč湥ą╝čā ąŠąĮąĖ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčé ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čéą░ą║, ą░ ąĮąĄ ąĖąĮą░č湥.┬╣ŌüČ
ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą░ą▒čüčéčĆą░ą║čéąĮąŠą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčé ąĮą░ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü, ą┐ąŠč湥ą╝čā ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ, č乊čĆą╝čāą╗ąĖčĆčāąĄčéčüčÅ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝: ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĮą░čÅ ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ ą▓ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ, ąĮąŠ ą║ą░čĆą┤ąĖąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅčģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐čĆąĄč鹥čĆą┐ąĄą╗ą░ ąĖą┤ąĄčÅ čüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ąŠčüčéąĖ ą▓ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĖ.
ą×ą▒čŖčÅčüąĮąĖą╝ čŹč鹊 čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąĄąĄ. ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčüčéąĖ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ą┤ą▓čāą╝čÅ čüą┐ąŠčüąŠą▒ą░ą╝ąĖ: ą╗ąĖą▒ąŠ ą┐čāč鹥ą╝ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖčÅ ąĮąĖčćčīąĖčģ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░, ą╗ąĖą▒ąŠ ą┐čāč鹥ą╝ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░čåąĖąĖ ąĖ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ č鹥čģ, ą║č鹊 ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮčŗčģ ąŠą▒čŖąĄą║č鹊ą▓, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ąĖ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮčŗą╝ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą╝. ąśąĮčŗčģ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą▓ ąĮąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé.┬╣ŌüĘ┬Āą×ą▒ą░ čüą┐ąŠčüąŠą▒ą░ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗ ą┤ą╗čÅ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüčéą▓ą░. ąØą░čĆčÅą┤čā čü ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ąĖ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą╝ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ąĖą╝ąĄą╗ąŠ ą╝ąĄčüč鹊 ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖąĄ ąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ą░ ąĮąĄą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąĖ ąĮąĄ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮčŗą╝ ą┐čāč鹥ą╝. ąś ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠ č鹊ą╝čā, ą║ą░ą║ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą╝ąŠą│čāčé čĆą░ąĘą▓ąĖčéčīčüčÅ ą┤ąŠ čäąĖčĆą╝ ąĖ ą║ąŠčĆą┐ąŠčĆą░čåąĖą╣, 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░č鹊čĆčüą║ąĖą╣ ąĖ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆčüą║ąĖą╣ ą▒ąĖąĘąĮąĄčü ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ą║čĆčāą┐ąĮąŠą╝ą░čüčłčéą░ą▒ąĮčŗą╝ ąĖ ą▓ čģąŠą┤ąĄ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčüčéąĖ č乊čĆą╝čā ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓.┬╣ŌüĖ┬ĀąóąŠ, čćč鹊 ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé ąĖ čćč鹊 čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé č鹥ąĮą┤ąĄąĮčåąĖčÅ ą║ ąĄą│ąŠ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÄ, ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ čāą┤ąĖą▓ą╗čÅčéčī, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĖą┤ąĄčÅ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖčÅ ąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ą░ ą▓ąĮąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░ ą┐ąŠčćčéąĖ čüč鹊ą╗čī ąČąĄ čüčéą░čĆą░, ą║ą░ą║ ąĖ ąĖą┤ąĄčÅ ąŠą▒ąŠą│ą░čēąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝. ąś, ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░č鹊čĆ, ąĮąĄ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ, č湥ą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čī, ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠčćąĖčéą░ąĄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╣ ą┤ąŠčģąŠą┤ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĮąĖąĘą║ąŠą╝čā.
ąĀąĄčłą░čÄčēąĄąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü: ┬½ą¦č鹊 čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čüą┤ąĄčƹȹ║ąŠą╣ ąĖ ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĖč鹥ą╗ąĄą╝ čĆąŠčüčéą░ ąĖ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüą░?┬╗
ąĪ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą▒čŗčéčī ą┐ąŠąĮčÅčéąĮąŠ, čćč鹊 ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ąĮą░ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆ čäąĖčĆą╝, ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčēąĖčģčüčÅ čŹą║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░č鹊čĆčüą║ąĖą╝ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąŠą╝, ąĖą╝ąĄčÄčé čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĖąĮčāčÄ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤čā, č湥ą╝ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ čĆąŠčüčéą░ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖą╣, ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčēąĖčģčüčÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą╝. ąÆąŠą┐čĆąĄą║ąĖ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖčÅą╝ ┬½čłą║ąŠą╗čŗ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓čŗą▒ąŠčĆą░┬╗, ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĖ čćą░čüčéąĮą░čÅ čäąĖčĆą╝ą░ ąĮąĄ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéčÅą╝ąĖ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüą░ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĖ č鹊ą│ąŠ ąČąĄ čéąĖą┐ą░, ą░ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčéčüčÅ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠ čĆą░ąĘąĮčŗą╝ąĖ ą▓ąĖą┤ą░ą╝ąĖ ąŠą┐ąĄčĆą░čåąĖą╣.┬╣Ōü╣
ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čäąĖčĆą╝čŗ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮčŗ, čü ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čīčüą║ąĖą╝ čüą┐čĆąŠčüąŠą╝ (ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čāčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ąĄčé ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ ąĮą░ ą┤ąŠčüčéąĖąČąĖą╝čāčÄ čüčāą╝ą╝čā ą▓čŗčĆčāčćą║ąĖ), ą░ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ŌĆö ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖąĄą╣ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąĘą░čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé ą╗čÄą▒čāčÄ čäąĖčĆą╝čā, ąČąĄą╗ą░čÄčēčāčÄ ąŠčüčéą░čéčīčüčÅ ą▓ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąĄ, ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čéčī ąĘą░čéčĆą░čéčŗ ąĮą░ ą╝ąĖąĮąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ. ą¦č鹊ą▒čŗ čéą░ą║ąŠąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖčÅčéąĖąĄ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░čģ, ąŠąĮąŠ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ąŠą▒čüą╗čāąČąĖą▓ą░čéčī ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĮą░čüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆ čäąĖčĆą╝čŗ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą░ą║čéą░ą╝ąĖ ą┐ąŠą║čāą┐ą║ąĖ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣.
ą×ą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ąĮą░ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆ ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ čéąĖą┐ą░ čäąĖčĆą╝čŗ ŌĆö ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąĖą╗ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ŌĆö ąĮąŠčüčÅčé čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĖąĮąŠą╣ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ. ą¤čĆąĄąČą┤ąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, čÅą▓ąĮąŠ ą░ą▒čüčāčĆą┤ąĮąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĖčģ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčéčüčÅ čüą┐čĆąŠčüąŠą╝ ą▓ č鹊ą╝ ąČąĄ čüą╝čŗčüą╗ąĄ, ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╝ ą╝čŗ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ąĄą╝ čŹč鹊 ą▓ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ čćą░čüčéąĮčŗčģ čäąĖčĆą╝. ąØąĖą║ą░ą║ąĖą╝ čāčüąĖą╗ąĖąĄą╝ ą▓ąŠąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī čüąĄą▒ąĄ, čćč鹊 ą╗čÄą┤ąĖ, ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčēąĖąĄčüčÅ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹊ą▓ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤čŗ, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠą╝ ąĖ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĮčŗą╝ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą╝, ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮąĮčŗąĄ ąŠčéą┤ą░ą▓ą░čéčī ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā čćą░čüčéčī čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ą░, ą┐čĆąĄą┤čŖčÅą▓ą╗čÅčÄčé čüą┐čĆąŠčü ąĮą░ čāčüą╗čāą│ąĖ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░. ąØą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, čćč鹊ą▒čŗ ąŠąĮąĖ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖ čŹč鹊, čéčĆąĄą▒čāąĄčéčüčÅ ą┐čĆąĖąĮčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ. ąś čŹč鹊 ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ą┤ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé č鹊čé čäą░ą║čé, čćč鹊 čüą┐čĆąŠčü ąĮą░ ┬½čāčüą╗čāą│ąĖ┬╗ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąĮą░ ą┤ąĄą╗ąĄ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé. ąĪą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, čüą┐čĆąŠčü ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĖč鹥ą╗čÅ čĆąŠčüčéą░ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ąÆ č鹊ą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ, ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčé čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ, čŹč鹊 ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé čÅą▓ąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝┬Āą▓ąŠą┐čĆąĄą║ąĖ┬Āčüą┐čĆąŠčüčā.
ąóąŠčćąĮąŠ čéą░ą║ ąČąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĖč鹥ą╗ąĄą╝ čĆąŠčüčéą░ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖčÄ ą▓ č鹊ą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ, ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╝ čŹč鹊 ąĖą╝ąĄąĄčé ą╝ąĄčüč鹊 ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čäąĖčĆą╝čŗ. ąÆ ąŠčéą╗ąĖčćąĖąĄ ąŠčé ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣, ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā ąĮąĄ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čéčī ąĖąĘą┤ąĄčƹȹ║ąĖ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ ą╝ąĖąĮąĖą╝ą░ą╗čīąĮąŠą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ. ą×ąĮąŠ ą╝ąŠąČąĄčé ąŠą┐ąĄčĆąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą┐čĆąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ ąĘą░čéčĆą░čé, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ąĄčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčīčÄ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąŠąČąĖčéčī ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹ║ąĖ ąĮą░ ą┤čĆčāą│ąĖčģ čāčćą░čüčéąĮąĖą║ąŠą▓ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖčÅ ą┐ąŠ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹ║ą░ą╝ čéą░ą║ąČąĄ ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ čäą░ą║č鹊čĆą░, ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĖą▓ą░čÄčēąĄą│ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ąĢą│ąŠ čĆąŠčüčé ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ┬Āą▓ąŠą┐čĆąĄą║ąĖ┬Āč鹊ą╝čā čäą░ą║čéčā, čćč鹊 ąŠąĮąŠ┬ĀąĮąĄčŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠ┬Āą┐ąŠ ąĘą░čéčĆą░čéą░ą╝.
ąÆčüąĄ čŹč鹊, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ, ąĮąĄ ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé, čćč鹊 ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮą░ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čéą░ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĮąĖč湥ą╝ ąĮąĄ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮą░ ąĖ čćč鹊 ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ąĄą╝čŗąĄ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčé čüąŠą▒ąŠą╣ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčŗąĄ ą║ąŠą╗ąĄą▒ą░ąĮąĖčÅ. ąĀąĄčćčī ąĖą┤ąĄčé ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖą╣, ąĮą░ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗčģ ąĮą░ čäąĖčĆą╝čā ą┐ąŠą┤ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ┬½ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ┬╗, ąĖą╝ąĄąĄčé čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąŠčéą╗ąĖčćąĖčÅ.
ąĀąŠčüčé čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆčüą║ąŠą╣ čäąĖčĆą╝čŗ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮ ąĮąĄ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅą╝ąĖ čüą┐čĆąŠčüą░ ąĖ ąĮąĄ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹ║ą░ą╝ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, ą░ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄą╝ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖčÅ ąĖą╗ąĖ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄą╝.┬▓Ōü░┬Āąóą░ą║ą░čÅ čüčéčĆčāą║čéčāčĆą░ ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą┐ą╗ą░č鹥ąČą░ą╝ąĖ, ą░ ą┐ąŠ čüą░ą╝ąŠą╣ čüą▓ąŠąĄą╣ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĄ čéčĆąĄą▒čāąĄčé ąĮą░čüąĖą╗ąĖčÅ. ąØąŠ, čü ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čā ą╗čÄą▒ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖąĮčāąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ąĄčüčéčī ąČąĄčĆčéą▓čŗ, ąĖ čü ąĖčģ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ čĆąŠčüčé 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░č鹊čĆčüą║ąŠą╣ čäąĖčĆą╝čŗ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčé ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║čā, ą░ čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ, ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠąĄ ąĖą╗ąĖ ą┐ą░čüčüąĖą▓ąĮąŠąĄ. ą£ąŠąČąĮąŠ čüąĄą▒ąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī, čćč鹊 čŹč鹊 čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▒čāą┤ąĄčé ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ ą║ąŠąĮčåąŠą▓ čüą╗ąŠą╝ą╗ąĄąĮąŠ, ąĄčüą╗ąĖ čĆąĄčćčī ąĖą┤ąĄčé ąŠą▒ ąŠą┤ąĮąŠą╝ ąĖą╗ąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą╗čÄą┤čÅčģ, 菹║čüą┐ą╗čāą░čéąĖčĆčāčÄčēąĖčģ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ, ą┤ą▓ąŠąĖčģ, čéčĆąŠąĖčģ ąĖą╗ąĖ ą│čĆčāą┐ą┐čā ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ čüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╝ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ čüąĄą▒ąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī, čćč鹊ą▒čŗ ąŠą┤ąĮą░ ą╗ąĖčłčī ą│ąŠą╗ą░čÅ čüąĖą╗ą░ ąŠą▒čŖčÅčüąĮčÅą╗ą░ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ čüą╗čāčćą░ą╣, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĖčćč鹊ąČąĮąŠąĄ ą╝ąĄąĮčīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ ą▓ąĄą┤ąĄčé ą▒ąĖąĘąĮąĄčü ą┐ąŠ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░čåąĖąĖ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą┤ąĄčüčÅčéą║ąĖ, čüąŠčéąĮąĖ, čéčŗčüčÅčćąĖ čĆą░ąĘ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą│ąŠ.┬▓┬╣┬Āą¦č鹊ą▒čŗ ą┤ąŠą▒ąĖčéčīčüčÅ čŹč鹊ą│ąŠ, čéą░ą║ą░čÅ čäąĖčĆą╝ą░, ą▓ ą┐čĆąĖą┤ą░čćčā ą║ čüąĖą╗ąĄ ą┐čĆąĖąĮčāąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąŠą╣. ąæąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčī ąĄąĄ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī ą║ą░ą║ ą╗ąĄą│ąĖčéąĖą╝ąĮčāčÄ. ąĪąŠą│ą╗ą░čüąĖąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čéčī čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ č乊čĆą╝čŗ ŌĆö ąŠčé ą▒čāčĆąĮąŠą│ąŠ 菹ĮčéčāąĘąĖą░ąĘą╝ą░ ą┤ąŠ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗ąĖą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą┤čćąĖąĮąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠą╝čā. ąØąŠ ą▓ ą╗čÄą▒ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ąĖą╝ąĄčéčī ą╝ąĄčüč鹊 ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąŠą╝ ą▓ č鹊ą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ, čćč鹊 ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ąŠčéą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ ąŠčé ą╝čŗčüą╗ąĖ ąŠą▒ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╝ ąĖą╗ąĖ ą┐ą░čüčüąĖą▓ąĮąŠą╝ čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ą░ą╝ ąĮąĄą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĖ ąĮąĄ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĮąŠą│ąŠ (čé. ąĄ. ąĮą░čüąĖą╗čīčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ) ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖčÅ ąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ą░. ąÆą╝ąĄčüč鹊 ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĘą╝čāčēąĄąĮąĖčÅ čéą░ą║ąĖą╝ąĖ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅą╝ąĖ, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą┤ąĄą╝ąŠąĮčüčéčĆą░čåąĖąĖ ą┐čĆąĄąĘčĆąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠ ą▓čüąĄą╝, ą║č鹊 čéą░ą║ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░ąĄčé, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ąŠčéą║ą░ąĘą░ ąŠčé ą╗čÄą▒ąŠą╣ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą▓ čŹč鹊ą╝ (ąĮąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅ čāąČ ąŠ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ą░čģ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠ ą▓ąŠčüą┐čĆąĄą┐čÅčéčüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅą╝) ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠ ąĖą╗ąĖ ą┐ą░čüčüąĖą▓ąĮąŠ ąĖčģ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čéčī. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▓ čŹč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī, ą║ą░ą║ čŹč鹊 ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ą┐čĆą░ą▓čÅčé ą╝ąĮąŠą│ąĖą╝ąĖ. ą×ą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║čā ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčłąĖą▓ą░čéčī čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠčüčéčĆą░ą┤ą░ą▓čłąĖčģ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮą░čüč鹊ą╗čīą║ąŠ, čćč鹊 ą▒ąĄčüą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮčŗą╝ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī ą▒čŗ ą╗čÄą▒ąŠąĄ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠąĄ čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ.
ąĪąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ą░ą│ą░ąĄčé ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖąĄ ąĮą░ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮčā ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĖ ą▓ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ ą░čüą┐ąĄą║č鹥. ąÜą░ąČą┤ą░čÅ čäąĖčĆą╝ą░, čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖąĘąĖčĆčāčÄčēą░čÅčüčÅ ąĮą░ ą║čĆčāą┐ąĮąŠą╝ą░čüčłčéą░ą▒ąĮąŠą╝ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąĄ ą▓ čüč乥čĆąĄ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░čåąĖąĖ čćčāąČąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ čüčéčĆąĄą╝ąĖčéčīčüčÅ ą║ č鹊ą╝čā, čćč鹊ą▒čŗ čüčéą░čéčī ą╝ąŠąĮąŠą┐ąŠą╗ąĖčüč鹊ą╝ ąĮą░ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ. ą¦č鹊ą▒čŗ ą┐čĆąŠčåą▓ąĄčéą░čéčī ą▓ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ, ąĮą░ą┤ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ą▒čŗą╗ąŠ čćč鹊 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖąĖčĆąŠą▓ą░čéčī; ąĮąŠ ąĄčüą╗ąĖ ą┤ąŠą┐čāčüčéąĖčéčī ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖčÄ, č鹊, ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą▓čüą║ąŠčĆąĄ ąĮąĄ ąŠčüčéą░ąĮąĄčéčüčÅ ąĮąĖč湥ą│ąŠ, čćč鹊 ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ąŠčéąĮčÅčéčī. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā, čćč鹊ą▒čŗ ąŠčüčéą░ą▓ą░čéčīčüčÅ ą▓ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąĄ, ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗčéčī ą╝ąŠąĮąŠą┐ąŠą╗ąĖčüč鹊ą╝.
ąØąŠ ą┤ą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮą░ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮčÅčÅ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖčÅ, ą▓čüąĄ ąĄčēąĄ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖčÅ ą╝ąĄąČą┤čā ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ą╝ąĖ, ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĖą╝ąĖ ąĮą░┬ĀčĆą░ąĘąĮčŗčģ┬Āč鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅčģ. ąś čŹč鹊 čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĄčé ąČąĄčüčéą║ąĖąĄ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ąĮą░ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ąĪ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ąŠąĮąŠ ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░ąĄčé ą┤ą╗čÅ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ┬½ą┐čĆąŠą│ąŠą╗ąŠčüąŠą▓ą░čéčī ąĮąŠą│ą░ą╝ąĖ┬╗ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░, čé. ąĄ. ą┐ąŠą║ąĖąĮčāčéčī ąĄą│ąŠ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÄ, ąĄčüą╗ąĖ ąŠąĮąĖ čüčćąĖčéą░čÄčé, čćč鹊 čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ ąČąĖąĘąĮąĖ ąĮą░ ą┤čĆčāą│ąĖčģ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅčģ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ąŠą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗ. ąĢčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, ą┤ą╗čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čŹčéą░ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝ą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ąĖą╝ąĄčéčī čĆąĄčłą░čÄčēąĄąĄ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ, čé. ą║. ąŠąĮąŠ ą▓ ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ čüą╗ąŠą▓ą░ ąČąĖą▓ąĄčé ąĘą░ čüč湥čé ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą╗čÄą▒ąŠąĄ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠč鹥čĆąĄą╣ ą┐ąŠč鹥ąĮčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┤ąŠčģąŠą┤ą░ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░.┬▓┬▓┬Āąś ąŠą┐čÅčéčī ąČąĄ, čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄ ą▓ą░ąČąĮąŠ ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖčÅ ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čŹą║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆą░. ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ą╝ąŠąČąĄčé čüąŠčģčĆą░ąĮčÅčéčī ąĖ čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░čéčī čüą▓ąŠąĖ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ č鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąĄčüą╗ąĖ ąĄą╝čā čāą┤ą░čüčéčüčÅ čüąŠąĘą┤ą░čéčī čā ąĮą░čĆąŠą┤ą░ ą▓ą┐ąĄčćą░čéą╗ąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ ąĮą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ čŹč鹊ą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┐čĆąĖčÅčéąĮčŗ ąĖą╗ąĖ, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąĮąŠčüąĮčŗ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ.
ą×ą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ čéą░ą║ąČąĄ ąĖą│čĆą░ąĄčé čĆąĄčłą░čÄčēčāčÄ čĆąŠą╗čī ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ą░ą│čĆąĄčüčüąĖąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ. ąźąŠčéčÅ čŹč鹊 ąĖ ąĮąĄ ą┤ąĖą║čéčāąĄčéčüčÅ ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčīčÄ, ąĮąŠ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ą░ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą║ą░ą║ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆčüą║ąŠą╣ čäąĖčĆą╝čŗ ą┤ąĄą╗ą░ąĄčé ą▓ąĄčüčīą╝ą░ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠą╣ (ąĮąĄ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮčÄčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ąĖąĘ-ąĘą░ čāą┐ąŠą╝čÅąĮčāč鹊ą╣ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ ą╝ąĖą│čĆą░čåąĖąĖ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ) ą░ą│čĆąĄčüčüąĖčÄ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ┬½ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╣┬╗ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčī ąĘą░čēąĖčēą░čéčīčüčÅ ąŠčé ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮąŠą╣ ą░ą│čĆąĄčüčüąĖąĖ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓.┬▓┬│┬Āą×č湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, čćč鹊 ą┤ą╗čÅ čāčüą┐ąĄčģą░ ą▓ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą╝ąĄąČą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣ąĮą░čģ ąĖą╗ąĖ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ čüč鹊ą╗ą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖčÅčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ąĖą╝ąĄčéčī ą▓ čüą▓ąŠąĄą╝ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠąĄ (ą▓ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝ ąĖąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĖąĖ) ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓ ą┤ą╗čÅ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĄą│ąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣. ąØąŠ čŹčéąĖ čĆąĄčüčāčĆčüčŗ ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī ą┐čĆąĄą┤ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čćą░čüčéčīčÄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąśąĘ-ąĘą░ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝čŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠą▒ąĄą┤čŗ ą▓ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ ąĖ ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ąĮąĄ čüč鹊ą╗ą║ąĮčāčéčīčüčÅ čü čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą▓ čģąŠą┤ąĄ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠą┐čÅčéčī-čéą░ą║ąĖ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ čĆąĄčłą░čÄčēąĖą╝ čäą░ą║č鹊čĆąŠą╝, ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĖčĆčāčÄčēąĖą╝ ą╝ą░čüčłčéą░ą▒čŗ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ąĄčüą╗ąĖ ą▓ąŠą╣ąĮą░ ą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ ąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąŠą╣, ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░čéčī ąĄąĄ ąĖ ąĖą╝ąĄąĄčé čłą░ąĮčü ąĄąĄ ą▓čŗąĖą│čĆą░čéčī.
ąØą░ą║ąŠąĮąĄčå, ąĄčüčéčī ąĄčēąĄ ąĖ čéčĆąĄčéąĖą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒, čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą╗ą░ą│ą░ąĄčé ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖąĄ ąĮą░ ą╝ą░čüčłčéą░ą▒čŗ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ąĢčüą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąĮą░ą┤ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéąĖčĆčāąĄą╝čŗą╝ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą║ą░ą║ ą┐čĆąĖąĮčāąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, čéą░ą║ ąĖ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠą│ąŠ ą╝ą░ąĮąĖą┐čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄą╝ čāą╝ąŠą▓, č鹊 ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖčÅ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą│ąŠ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ą░ ą▓ čüą░ą╝ąŠą╣ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ, čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆčāčÄčēąĄą│ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ ą╝ąĄąČą┤čā ąĄąĄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ ąĖ ąĖčģ čüą╗čāąČą░čēąĖą╝ąĖ, čā ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąĮąĄčé ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░, ą║čĆąŠą╝ąĄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ. ą×č湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, čćč鹊 ą▓ąĮąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝ą░čłąĖąĮčŗ ąĮąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé ąĮąĖą║ąŠą│ąŠ, ą║č鹊 ą╝ąŠą│ ą▒čŗ ąĮą░ą▓čÅąĘą░čéčī ąĄąĄ čüąŠčüčéą░ą▓ąĮčŗą╝ čćą░čüčéčÅą╝ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĖčģ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗. ą¤čĆąĖąĮčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą║ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÄ čŹčéąĖčģ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ čüčĆąĄą┤ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čüą╗čāąČą░čēąĖčģ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ ą▓ąĄčéą▓ąĄą╣ ąĖ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖą╣ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ.┬▓Ōü┤┬Āą¤čĆąĄąĘąĖą┤ąĄąĮčé ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé čüąĖą╗ąŠą╣ ąĘą░čüčéą░ą▓ąĖčéčī ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ąĖą┤čéąĖ ąĮą░ ą▓ąŠą╣ąĮčā, ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤čÅčēą░čÅ čäąĖąĘąĖč湥čüą║ą░čÅ čüąĖą╗ą░ ą▒čāą┤ąĄčé, ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, ąĮą░ čüč鹊čĆąŠąĮąĄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░. ąÆ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé čüąĖą╗ąŠą╣ ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖčéčī čüą▓ąŠąĖčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé ąĖą┤čéąĖ čüčĆą░ąČą░čéčīčüčÅ, čāą▒ąĖą▓ą░čéčī ąĖ čāą╝ąĖčĆą░čéčī ŌĆö ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, ąŠąĮąĖ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗ ą╗čÄą▒ąŠą╣ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé čāąĮąĖčćč鹊ąČąĖčéčī ąĄą│ąŠ. ąöąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ą┐čĆąĄąĘąĖą┤ąĄąĮčéą░ ąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī čāčüą┐ąĄčłąĮčŗą╝ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĄą╝čā čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ąĮčāčéčĆąĖ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čéą░, čé. ąĄ. ą▓ č鹊ą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ, ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĄąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĖčģčüčÅ ąĮą░ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čüą╗čāąČą▒ąĄ, ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠ ąĖą╗ąĖ čģąŠčéčÅ ą▒čŗ ą┐ą░čüčüąĖą▓ąĮąŠ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ąĄčé ąĖčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ą║ą░ą║ ą╗ąĄą│ąĖčéąĖą╝ąĮčŗąĄ. ąĢčüą╗ąĖ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮąŠąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ, ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČą░čēąĄąĄ ą║ čĆą░ąĘąĮčŗą╝ ą▓ąĄčéą▓čÅą╝ ąĖ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅą╝ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ, ą┐čĆčÅą╝ąŠ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĖčéčüčÅ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĄ ą┐čĆąĄąĘąĖą┤ąĄąĮčéą░, ąŠąĮą░ ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮą░. ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čāą▓ąĄčĆąĄąĮ, čćč鹊 ąĄą│ąŠ ą▓ąŠą╣čüą║ą░ čüčćąĖčéą░čÄčé ą▓ąŠą╣ąĮčā ąĮąĄą╗ąĄą│ąĖčéąĖą╝ąĮąŠą╣ ąĖą╗ąĖ čćč鹊 ą║ąŠąĮą│čĆąĄčüčü, IRS, ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĄąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ čüą╗čāąČą░čēąĖčģ ąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ čéą░ą║ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ąĄą╝čŗčģ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ čĆą░ą▒ąŠčéąĮąĖą║ąŠą▓ čüčćąĖčéą░čÄčé čéą░ą║ąĖąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ą┐čĆąĄčüčéčāą┐ąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ąŠčéą║čĆčŗč鹊 ąĖą╝ ą▓ąŠčüą┐čĆąŠčéąĖą▓čÅčéčüčÅ, ŌĆö ą▓čüčéą░ąĮąĄčé ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąĮąĄčĆą░ąĘčĆąĄčłąĖą╝ąŠą╣ ąĘą░ą┤ą░č湥ą╣, ą┤ą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ ąŠąĮ čüą░ą╝ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ąĄčé ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ ą┐čĆąĄąĘąĖą┤ąĄąĮčéą░.┬▓ŌüĄ
ąśą╝ąĄčÅ ą▓ ą▓ąĖą┤čā, čćč鹊 ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ, ą░ ąĮąĄ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖčüčéąĖą║ąĖ čüą┐čĆąŠčüą░ ąĖ ąĖąĘą┤ąĄčƹȹĄą║ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čäą░ą║č鹊čĆąŠą╝, ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĖą▓ą░čÄčēąĖą╝ čĆąŠčüčé ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, čÅ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēą░čÄčüčī ą║ ą╝ąŠąĄą╝čā ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠą╝čā ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮąĖčÄ č乥ąĮąŠą╝ąĄąĮą░ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░čÄčēąĄą│ąŠ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ┬½ą┐čĆąŠčüč鹊┬╗ ą║ą░ą║ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄąĮčŗ ą▓ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓čāčÄčēąĖčģ ąĖą┤ąĄčÅčģ.
ąĢčüą╗ąĖ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ą░ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą╗ąĖą╝ąĖčéąĖčĆčāčÄčēąĖą╝ čäą░ą║č鹊čĆąŠą╝ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮčŗ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆčüą║ąŠą╣ čäąĖčĆą╝čŗ, č鹊 ą╗ąŠą│ąĖčćąĮąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮčÅčéčī ąĄąĄ čĆąŠčüčé ą▓ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ č鹥čĆą╝ąĖąĮą░čģ. ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, ą╗čÄą▒ąŠąĄ ą┤čĆčāą│ąŠąĄ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮąĖąĄ, čé. ąĄ. ąĮąĄ ą▓ č鹥čĆą╝ąĖąĮą░čģ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ, ą░ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ┬½ąŠą▒čŖąĄą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ┬╗ čäą░ą║č鹊čĆąŠą▓, ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą▓ ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠą╝ ąĖč鹊ą│ąĄ čüčćąĖčéą░čéčīčüčÅ ą╗ąŠąČąĮčŗą╝. ą£ą░čüčłčéą░ą▒čŗ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ ąĮąĄ ąĖąĘ-ąĘą░ ą║ą░ą║ąĖčģ-č鹊 ąŠą▒čŖąĄą║čéąĖą▓ąĮčŗčģ ą┐čĆąĖčćąĖąĮ, ąĮą░ą┤ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ąĖ ąĖą┤ąĄąĖ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄčÄčé ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą╣ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ, ąĖ čāąČ č鹊čćąĮąŠ ąĮąĄ ąĖąĘ-ąĘą░ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ čüą┐čĆąŠčüą░. ąŁč鹊 ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ą┐ąŠč鹊ą╝čā, čćč鹊 ą╝ąĄąĮčÅčÄčéčüčÅ ą┐čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÄčēąĖąĄ ą▓ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄ ąĖą┤ąĄąĖ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 čüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ąŠ, ą░ čćč鹊 ąĮąĄčüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ąŠ. ąóąŠ, čćč鹊 ą║ąŠą│ą┤ą░-č鹊 čüčćąĖčéą░ą╗ąŠčüčī ą┐čĆąĄčüčéčāą┐ąĮčŗą╝ ąĖ ąĘą░čüą╗čāąČąĖą▓ą░čÄčēąĖą╝ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ ąĖ ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÅ, čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąĖąĄą╝ą╗ąĄą╝čŗą╝ ąĖ ą╗ąĄą│ąĖčéąĖą╝ąĮčŗą╝.
ą¦č鹊 ąČąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ čü ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ ąŠ čüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ąŠčüčéąĖ, čĆą░ąĘą┤ąĄą╗čÅąĄą╝čŗą╝ąĖ čłąĖčĆąŠą║ąŠą╣ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą╣?┬▓ŌüČ
ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĀąĖą╝čüą║ąŠą╣ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖąĖ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮą░čÅ ąĢą▓čĆąŠą┐ą░ ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄčłą╗ą░ ą║ ą▓ąĄčüčīą╝ą░ ą░ąĮą░čĆčģąĖč湥čüą║ąŠą╣ čüąĖčüč鹥ą╝ąĄ, čüąŠčüč鹊čÅčēąĄą╣ ąĖąĘ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖą╣, čāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅąĄą╝čŗčģ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ąĖ č乥ąŠą┤ą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ą╝ąĖ. ąæą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ čŹč鹊ą╣ čüąĖčüč鹥ą╝ąĄ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą░ąĮą░čĆčģąĖąĖ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗čÅą╗ą░ ą▓ą╗ą░čüčéčī ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąĮą░ čüą▓ąŠąĄą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąĖ ąŠą▒ą╗ąĄą│čćą░ą╗ą░ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ┬▓ŌüĘ, ą▒čŗą╗ ą▓čŗčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ąĄąĮ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖąĮčüčéąĖąĮą║čé č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ą▒ąĄąĘąŠčłąĖą▒ąŠčćąĮąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░čÄčēąĖą╣, čćč鹊 č鹊ą╗čīą║ąŠ čćą░čüčéąĮą░čÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčī čüąŠą▓ą╝ąĄčüčéąĖą╝ą░ čü ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąŠą╣ ąĄą│ąŠ ą║ą░ą║ čĆą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓ą░. ąŁč鹊čé ąĖąĮčüčéąĖąĮą║čé ą┐ąŠą┤ą┐ąĖčéčŗą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĄą╣ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą║ąŠąĮą░ ąĖ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆą░ą▓, ą▓ąŠąĘąĮąĖą║čłąĄą╣ ąĖ ąĮą░ą▒ąĖčĆą░ą▓čłąĄą╣ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ čüčĆąĄą┤ąĖ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą╣ 菹╗ąĖčéčŗ ą║ą░č鹊ą╗ąĖč湥čüą║ąŠą╣ čåąĄčĆą║ą▓ąĖ (ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮąĖčĆąŠą▓ą░ą▓čłąĄą│ąŠ ┬½ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ┬╗ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĖ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčéą░). ąóąĄąŠčĆąĖčÅ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ą░, ąŠą┐ąĖčĆą░čÅčüčī ąĮą░ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖąĄ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮčŗąĄ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ ąŚą░ą┐ą░ą┤ą░ ŌĆö ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą│čĆąĄč湥čüą║čāčÄ ąĖ čüč鹊ąĖč湥čüą║čāčÄ čäąĖą╗ąŠčüąŠčäąĖčÄ, čĆąĖą╝čüą║ąŠąĄ ą┐čĆą░ą▓ąŠ ąĖ ąĖčāą┤ąĄąŠ-čģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüą║čāčÄ čĆąĄą╗ąĖą│ąĖąŠąĘąĮčāčÄ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÄ, ą▓ąĄą╗ą░ ą║ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖčÄ ąĖą┤ąĄą╣ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüą░ą╗čīąĮčŗčģ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖčģ ą┐čĆą░ą▓, čĆą░ą▓ąĮąŠą╣ ą┤ą╗čÅ ą▓čüąĄčģ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ, čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéą░.┬▓ŌüĖ
ąĪčéą░ą╗ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ čåąĄąĮčéčĆčŗ, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą▓ą╗ą░čüčéčī ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ čāą╝ąĄąĮčīčłąĖą╗ą░čüčī ą┤ąŠ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ, ąĮąĄą▓ąĖą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ ą▓ ą┐čĆąĄąČąĮąĖąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░ ŌĆö ą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░čģ čüąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╣ ąśčéą░ą╗ąĖąĖ, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą▓ ąÆąĄąĮąĄčåąĖąĖ, ą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░čģ ąōą░ąĮąĘąĄą╣čüą║ąŠą│ąŠ čüąŠčĹʹ░, čéą░ą║ąĖčģ ą║ą░ą║ ąøčÄą▒ąĄą║ ąĖ ąōą░ą╝ą▒čāčĆą│, ąĖ ą▓ąŠ ążą╗ą░ąĮą┤čĆąĖąĖ ąĖ ąØąĖą┤ąĄčĆą╗ą░ąĮą┤ą░čģ, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ąÉąĮčéą▓ąĄčĆą┐ąĄąĮąĄ ąĖ ąÉą╝čüč鹥čĆą┤ą░ą╝ąĄ. ążąĄąŠą┤ą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖą┤ąĄąĖ ą╗ąĖčćąĮąŠą╣ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ, ą║čĆąĄą┐ąŠčüčéąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ą░ ąĖ ąĖąĄčĆą░čĆčģąĖč湥čüą║ąĖ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ą░, čüąŠčüč鹊čÅčēąĄą│ąŠ ąĖąĘ ąČąĄčüčéą║ąŠ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░ ą║ą╗ą░čüčüąŠą▓, čāčüčéčāą┐ąĖą╗ąĖ ą╝ąĄčüč鹊 ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝čā ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ, ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ą▓čłąĄą╝čā čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čā, čĆą░ą▓ąĄąĮčüčéą▓ąŠ, ą┐čĆą░ą▓ą░ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĮčŗąĄ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ. ąś čŹčéąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮą░ą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖ čüąĖą╗čā ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠą╝čā ą┐čĆąĖč鹊ą║čā ąĮąŠą▓čŗčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ą▓ą┤ąŠčģąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čéą░ą║ąĖą╝ąĖ ąČąĄ ąĖą┤ąĄčÅą╝ąĖ ąĖ ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĮčŗčģ ą▒ąĄčüą┐čĆąĄčåąĄą┤ąĄąĮčéąĮčŗą╝ ą┐čĆąŠčåą▓ąĄčéą░ąĮąĖąĄą╝, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ, ą║ą░ą║ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▒čŗą╗ąŠ ą┤ąŠą║ą░ąĘą░ąĮąŠ, ą╝ąŠąČąĄčé ą┐čĆąĖąĮąĄčüčéąĖ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ą░.┬▓Ōü╣
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĖą┤ąĄąĖ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąŠą╣ čĆą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ, čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ąĖ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą▓ č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ąĖ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠą│ąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ. ążąĄąŠą┤ą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, čāą║ąŠčĆąĄąĮąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ čĆą░ąĘčĆąŠąĘąĮąĄąĮąĮčŗčģ ąŠą▒ą╗ą░čüčéčÅčģ, ąŠčüąŠąĘąĮą░ą▓ čāą│čĆąŠąĘčā, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąŠ čéą░ą║ąŠąĄ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣ ą┤ą╗čÅ ąĖčģ čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮąŠčüčéąĖ, čüą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▓ąĮąŠą▓čī ą║ąŠąĮčüąŠą╗ąĖą┤ąĖčĆąŠą▓ą░čéčī čüą▓ąŠčÄ ą▓ą╗ą░čüčéčī. ą×ą▒čŖąĄą┤ąĖąĮąĖą▓ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ą▓ čģąŠą┤ąĄ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą▒ąŠčĆčīą▒čŗ ąĖ ą▓ąŠą╣ąĮ ą╝ąĄąČą┤čā č乥ąŠą┤ą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅą╝ąĖ, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą▓ ą║čĆčāą┐ąĮčŗąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĖ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ą▓ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮčÄčÄ ą▓ą╗ą░čüčéčī, ąŠąĮąĖ ą▓čüąĄ ąČąĄ čüą╝ąŠą│ą╗ąĖ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčüč鹊čÅčéčī ąĖą┤ąĄčÅą╝ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ, ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą▓čłąĖą╝čüčÅ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĮąĖąĄą╝ ą╗ąĖčłčī ą▓ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąĖčģ ą╝ąĄčüčéą░čģ, ąĖ ą┤ą░ąČąĄ čāčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░čéčī ąĄčēąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╝ąŠčēąĮąŠąĄ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆčüą║ąŠąĄ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ąĮą░ą┤ čŹčéąĖą╝ąĖ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅą╝ąĖ. ą¤čĆąĖčłąĄą╗ ą▓ąĄą║ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĖąĘą╝ą░ ŌĆö ą▓ąĄą║ č乥ąŠą┤ą░ą╗čīąĮčŗčģ čüą▓ąĄčĆčģą┤ąĄčƹȹ░ą▓, ą╝ąŠąĮą░čĆčģąĖą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖ čüąĖčüč鹥ą╝čā č乥ąŠą┤ą░ą╗čīąĮąŠą╣ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ ąĮą░ čüą▓ąŠąĖčģ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅčģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ą┤ąŠčüčéąĖą│ą╗ąĖ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓, ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČą░čÄčēąĖčģčüčÅ ą║ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╝ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╝ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝. ąĪ ą┐ąŠą▒ąĄą┤ąŠą╣ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĖąĘą╝ą░ čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖčćą░čÄčēąĖąĄ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮčŗčģ ą│ąŠčĆąŠą┤ąŠą▓ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąĮąŠą▓čī ą▒čĆąŠčłąĄąĮčŗ ą▓ ą┐čāčćąĖąĮčā 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čāą┐ą░ą┤ą║ą░ ąĖ ąĘą░čüč鹊čÅ, ą▓ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüą╗čāčćą░čÅčģ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą▓čłąĄą│ąŠčüčÅ čüč鹊ą╗ąĄčéąĖčÅą╝ąĖ.┬│Ōü░
ąØąŠ čŹčéą░ ą┐ąŠą▒ąĄą┤ą░ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ą░ ą║ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╝čā ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÄ ąĖą┤ąĄą╣ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ąĖ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąØą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, čŹčéąĖ ąĖą┤ąĄąĖ ąĮą░čłą╗ąĖ ąĄčēąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąĖą╗čīąĮčŗčģ ą▓čŗčĆą░ąĘąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ąĖ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąŠą▓ą╗ą░ą┤ąĄą▓ą░ą╗ąĖ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄą╝. ą¤ąŠą┤ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄą╝ ąĮąĄą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░čÄčēąĄą╣čüčÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ą░ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ą░ ąĖ ąŠą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗ą░ čāą╝ą░ą╝ąĖ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĮą░ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, čüąĄą║čāą╗čÅčĆąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé ą┐čĆąĄą┤čłąĄčüčéą▓čāčÄčēąĄą╣ ŌĆö č鹊, čćč鹊 ą▓ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąŠ ą║ą╗ą░čüčüąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą╗ąĖą▒ąĄčĆą░ą╗ąĖąĘą╝ąŠą╝. ąŁčéą░ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ ąĄčēąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą║ąŠąĮčåąĄąĮčéčĆąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮą░ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ąŠąĮčÅčéąĖčÅčģ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤čāą░ą╗čīąĮąŠą╣ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ąĖ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą┐ąŠčüą▓čÅčēą░ą╗ą░ čüąĄą▒čÅ ąĖčģ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą╝čā ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ┬│┬╣. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, ą┐ąŠąŠčēčĆčÅąĄą╝ąŠąĄ ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąĖą╝ ąŠą┐čŗč鹊ą╝ ąĮąĄą┐čĆąĄą▓ąĘąŠą╣ą┤ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåą▓ąĄčéą░ąĮąĖčÅ, ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāč鹊ą│ąŠ ą▓ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ąĖ ą┐čĆąĄąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ąĮąĖčÅ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĮčŗčģ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖą╣, čüąĄą╝ąĖą╝ąĖą╗čīąĮčŗą╝ąĖ čłą░ą│ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčłą╗ąŠ ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąŁčéą░čéąĖčüčéčüą║ąĖąĄ ą┤ąŠą║čéčĆąĖąĮčŗ ą╝ąĄčĆą║ą░ąĮčéąĖą╗ąĖąĘą╝ą░, ą║ą░ą╝ąĄčĆą░ą╗ąĖąĘą╝ą░ ąĖ┬Āpolizeiwissenschaft┬ĀŌĆö ąŠčĆč鹊ą┤ąŠą║čüąĖčÅ č鹊ą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ŌĆö ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│ą╗ąĖčüčī ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą╝čā čāąĮąĖčćč鹊ąČąĄąĮąĖčÄ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čĆą░čüčéčāčēąĄą│ąŠ čćąĖčüą╗ą░ ąĮąŠą▓čŗčģ ą┐ąŠą╗ąĖčé菹║ąŠąĮąŠą╝ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖ, čü ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖ ą┐čĆąŠąĮąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčīčÄ čĆą░ąĘčŖčÅčüąĮčÅą╗ąĖ ąĮąĄąĘą░ą╝ąĄąĮąĖą╝čāčÄ čĆąŠą╗čī čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéą░ ą▓ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░ ąĖ, čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, ą┐čĆąŠą▓ąŠąĘą│ą╗ą░čłą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║čā čĆą░ą┤ąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ┬Ālaissez–faire.┬│┬▓
ąØą░čćąĖąĮą░čÅ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ čü 1700 ą│ąŠą┤ą░ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ąĮą░čüč鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘą░čģą▓ą░č湥ąĮąŠ čŹčéąĖą╝ąĖ ąĖą┤ąĄčÅą╝ąĖ, čćč鹊 ą▓ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĖčüčéčüą║ąĖčģ ą╝ąŠąĮą░čĆčģąĖčÅčģ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐čŗ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąĖ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĮčŗąĄ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ. ąÉąĮą│ą╗ąĖčÅ ą▓ XVII ą▓ąĄą║ąĄ čāąČąĄ ą┐čĆąŠčłą╗ą░ č湥čĆąĄąĘ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüąĄčĆčīąĄąĘąĮąŠ ą┐ąŠą║ąŠą╗ąĄą▒ą░ą╗ąĖ ą▓ą╗ą░čüčéčī ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĖčüčéčüą║ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. XVIII ą▓ąĄą║ ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗čüčÅ ą║ą░čéą░ą║ą╗ąĖąĘą╝ą░ą╝ąĖ ąÉą╝ąĄčĆąĖą║ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ąĖ ążčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖą╣. ą¤čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ ą┤ąŠ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčŗ XIX ą▓ąĄą║ą░ ąĮąĄą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮą░čÅ č湥čĆąĄą┤ą░ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąĖą╣ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ą░ ą║ ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠą╝čā čüąĮąĖąČąĄąĮąĖčÄ čĆąŠą╗ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą┤ąŠ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ąĮąĖąĘą║ąŠą│ąŠ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ąĘą░ ą▓čüčÄ ąĖčüč鹊čĆąĖčÄ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐čŗ.
ąśą┤ąĄčÅ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąŠą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗ą░ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ą░ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝ čéą░ą║ąŠąĄ čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ą╗ąĖčćąĮą░čÅ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ą░ ąĖ čćą░čüčéąĮą░čÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčī čüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓čŗ, čüą░ą╝ąŠąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮčŗ, ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗ, ąĮąĄąĮą░čĆčāčłąĖą╝čŗ ąĖ čüą▓čÅčéčŗ ąĖ čćč鹊 ą╗čÄą▒ąŠą╣ ąĮą░čĆčāčłąĖč鹥ą╗čī čŹčéąĖčģ ą┐čĆą░ą▓, ą┐čĆąĖč湥ą╝ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗čī ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĮąĄ ą▓ ą╝ąĄąĮčīčłąĄą╣, ą░ ą┤ą░ąČąĄ ą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ, č湥ą╝ čćą░čüčéąĮčŗą╣ ą┐čĆą░ą▓ąŠąĮą░čĆčāčłąĖč鹥ą╗čī, ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▓ąŠčüą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čéčīčüčÅ ą║ą░ą║ ą┐čĆąĄąĘčĆąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖąĘą│ąŠą╣ ąĖ ą▓čüčéčĆąĄčćą░čéčī čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĄąĄ ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ.
ąĪ ą║ą░ąČą┤čŗą╝ ąĮąŠą▓čŗą╝ čłą░ą│ąŠą╝ ą║ ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÄ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčéą░ą╗ąŠ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ čüąĖą╗čā. ąÆą┤ąŠą▒ą░ą▓ąŠą║ čéą░ą║ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ąĄą╝ą░čÅ ą¤čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮą░čÅ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ą▒čŗą╗ą░ ą▓čŗąĘą▓ą░ąĮą░ čŹčéąĖą╝ąĖ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ ąĖ ą┐čĆąĖąĮąĄčüą╗ą░ čü čüąŠą▒ąŠą╣ ąĮąĄčüą╗čŗčģą░ąĮąĮčŗąĄ č鹥ą╝ą┐čŗ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čĆąŠčüčéą░, ą┤ą░ą▓čłąĖąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čéčī čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĮąĄą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮąŠ čĆą░čüčéčāčēąĄą│ąŠ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ, ąĮąŠ ąĮąĄčāą║ą╗ąŠąĮąĮąŠ ą┐ąŠą▓čŗčłą░čéčī ąŠą▒čēąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąČąĖąĘąĮąĖ, ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗ą░ ą┐čĆąĖą╗ąĖą▓ ą┐ąŠčćčéąĖ ą▒ąĄąĘčāą┤ąĄčƹȹĮąŠą│ąŠ ąŠą┐čéąĖą╝ąĖąĘą╝ą░.┬│┬│┬ĀąÜąŠąĮąĄčćąĮąŠ, ą┤ą░ąČąĄ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ XIX ą▓ąĄą║ą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ, čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ąĮąĄą┤ąŠą▓ąĄčĆąĖčÅ ą║ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ą┤ąŠčüčéąĖą│ą╗ą░ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĮąŠčüčéąĖ, ą▓ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐ąĄ ą▓ ąĖąĘąŠą▒ąĖą╗ąĖąĖ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ ąĖ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĖčüčéčüą║ąĖą╣ ą┤ąĄčüą┐ąŠčéąĖąĘą╝. ąØąŠ ą┐čĆąŠą│čĆąĄčüčü, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╝čā ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ, ą║ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĄ ąĖ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ą┐čĆąŠčåą▓ąĄčéą░ąĮąĖčÄ, ą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╝čŗą╝.┬│Ōü┤┬ĀąÆą┤ąŠą▒ą░ą▓ąŠą║, č鹥ą┐ąĄčĆčī čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░ ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ą░čÅ ąÉą╝ąĄčĆąĖą║ą░, čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮą░čÅ ąŠčé č乥ąŠą┤ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠ, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąĖ ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ą▓čŗčüčéčāą┐ą░ą╗ą░ ą▓ čĆąŠą╗ąĖ, ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮąŠą╣ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮčŗą╝ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ą╝ ąĪčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čīčÅ, čüą╗čāąČą░ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠą┤čāčłąĄą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ čåąĄąĮčéčĆąŠą╝ ą┐čĆąĖčéčÅąČąĄąĮąĖčÅ ŌĆö č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┤ą░ąČąĄ ą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ, č湥ą╝ čĆą░ąĮčīčłąĄ.┬│ŌüĄ
ąĪąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ą╝ą░ą╗ąŠ čćč鹊 čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą╗ąŠčüčī ąŠčé čŹč鹊ą╣ čŹčéąĖą║ąĖ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ąĮąĄą┤ąŠą▓ąĄčĆąĖčÅ ą║ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā. ąźąŠčéčÅ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖąĄ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠą╝ ą▓ ąĮą░čłąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖą╝ąĄąĄčé ą╝ąĄčüč鹊 ą▓ ą│ąŠčĆą░ąĘą┤ąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĖčģ ą╝ą░čüčłčéą░ą▒ą░čģ, ąŠąĮąŠ čüčćąĖčéą░ąĄčéčüčÅ ą╗ąĄą│ąĖčéąĖą╝ąĮčŗą╝. ąÆ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą║ą░ą║ ą░ąĮčéąĖąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčé, ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ąĮą░ ą┐čĆąĖąĮčāąČą┤ąĄąĮąĖąĖ ąĖ ąĮąĄčüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ąŠą╝ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖąĖ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝čā ąĮčāąČąĮąŠ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčüč鹊čÅčéčī ąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĘą░čüą╗čāąČąĖą▓ą░ąĄčé ąŠčüą╝ąĄčÅąĮąĖčÅ. ąØąĖą║č鹊 ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĄ čüčćąĖčéą░ąĄčé ą╝ąŠčĆą░ą╗čīąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ąŠčüčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐čĆąŠą┐ą░ą│ą░ąĮą┤čā ąĖ, čćč鹊 ąĄčēąĄ čģčāąČąĄ, ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠąĄ čāčćą░čüčéąĖąĄ ą▓ ą░ą║čéą░čģ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░čåąĖąĖ; ąĖ čāąČąĄ ąĮąĄ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąŠą▒čēąĄą┐čĆąĖąĮčÅčéčŗą╝ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąĖąĘą▒ąĄą│ą░čéčī čćą░čüčéąĮčŗčģ ą║ąŠąĮčéą░ą║č鹊ą▓ čü ą╗čÄą┤čīą╝ąĖ, čāčćą░čüčéą▓čāčÄčēąĖą╝ąĖ ą▓ čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ.
ąØą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 č鹊ą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ą▒čŗčéčī ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄą╝čŗą╝ąĖ čü ąĮąĄą┐čĆąĖčÅąĘąĮčīčÄ, ąŠčéą║čĆčŗč鹊ą╣ ą▓čĆą░ąČą┤ąĄą▒ąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖą╗ąĖ čüą║čĆčŗčéčŗą╝ ąĮąĄą│ąŠą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝, čŹčéąĖ ą╗čÄą┤ąĖ čüčćąĖčéą░čÄčéčüčÅ ą▓ą┐ąŠą╗ąĮąĄ ą┤ąŠčüč鹊ą╣ąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠčćąĮčŗą╝ąĖ. ą¤ąŠą╗ąĖčéąĖą║, ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čÄčēąĖą╣ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠčéčŖąĄą╝ą░ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą┐čāč鹥ą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ čéčĆąĄą▒čāčÄčēąĖą╣ ąĄąĄ čĆą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĖčÅ, ą┐ąŠą▓čüąĄą╝ąĄčüčéąĮąŠ ą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ čāą▓ą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝, ą░ ąĮąĄ ą┐čĆąĄąĘčĆąĄąĮąĖąĄą╝. ąśąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗, ąŠą┐čĆą░ą▓ą┤čŗą▓ą░čÄčēąĖą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖ ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ, ą┐ąŠą╗čāčćą░ąĄčé ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĮąĖąĄ ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąĖ ą║ą░ą║ ą│ą╗čāą▒ąŠą║ąĖą╣ ąĖ čüąĄčĆčīąĄąĘąĮčŗą╣ ą╝čŗčüą╗ąĖč鹥ą╗čī, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 č鹊ą│ąŠ čćč鹊ą▒čŗ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ ąŠą▒čĆą░ąĘčćąĖą║ąŠą╝ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą╝ąŠčłąĄąĮąĮąĖą║ą░. ąÜ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą╝čā ąĖąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčā ąŠčéąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ą║ą░ą║ ą║ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║čā, ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčēąĄą╝čāčüčÅ čéą░ą║ąĖą╝ ąČąĄ č湥čüčéąĮčŗą╝ čéčĆčāą┤ąŠą╝, ą║ą░ą║ ąĖ ą╝čŗ čü ą▓ą░ą╝ąĖ, ą░ ąĮąĄ ą║ą░ą║ ą║ ąĖąĘą│ąŠčÄ, ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ čģąŠč湥čé ąĖą╝ąĄčéčī ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ čĆąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ą░, ą┤čĆčāą│ą░ ąĖą╗ąĖ čüąŠčüąĄą┤ą░.
ąÜą░ą║ ąČąĄ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĮčāčéčī čŹčéčā ą│čĆą░ąĮą┤ąĖąŠąĘąĮčāčÄ ąŠą┐ąĄčĆą░čåąĖčÄ ąĖ čéą░ą║ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčī čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖčÅ, čćč鹊 ą┐čĆąĄąČąĮąĖąĄ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ąĮą░ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĖčüč湥ąĘą╗ąĖ, ąĖ čüčéą░ą╗ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝ (ąĖ ą┐ąŠąĮčŗąĮąĄ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ąĄčé ąŠčüčéą░ą▓ą░čéčīčüčÅ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝) ąĄą│ąŠ čĆąŠčüčé ą║ą░ą║ ą▓ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠą╝, čéą░ą║ ąĖ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝ ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ?┬│ŌüČ
ąØąĄčüąŠą╝ąĮąĄąĮąĮąŠ, ą║ą╗čÄč湥ą▓čŗą╝ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą╝ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠčĆąŠčéą░ ą▓ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ąĮąŠą▓čŗčģ, ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą░č鹥ą╗čīąĮčŗčģ, čÅą▓ąĮąŠ ąĖą╗ąĖ ąĮąĄčÅą▓ąĮąŠ čŹčéą░čéąĖčüčéčüą║ąĖčģ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüčéą░ą╗ąĖ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčéą░čéčī ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓čāčÄčēąĄąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ą▓ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐ąĄ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĮąŠ čü čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčŗ XIX ą▓ąĄą║ą░, ąĘą░č鹥ą╝ ą▓ ąĪą©ąÉ ąĮą░ čĆčāą▒ąĄąČąĄ XIX ąĖ XX ą▓ąĄą║ąŠą▓, ą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą¤ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ŌĆö ą┐ąŠą▓čüąĄą╝ąĄčüčéąĮąŠ,┬│ŌüĘ┬Āą┐čĆąĖč湥ą╝ ą▓ąŠ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čāčüą║ąŠčĆčÅčÄčēąĄą╝čüčÅ č鹥ą╝ą┐ąĄ.
ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ąŠč湥ąĮčī čģąŠčĆąŠčłąŠ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ čĆąĄčłą░čÄčēčāčÄ čĆąŠą╗čī ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖą╣, ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čÄčēąĖčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ, ą┤ą╗čÅ čüčéą░ą▒ąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ ąĖ čāčüąĖą╗ąĄąĮąĖčÅ čüą▓ąŠąĄą╣ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆčüą║ąŠą╣ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ąĮą░ą┤ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖ, čüąŠąĘąĮą░ą▓ą░čÅ čŹč鹊, ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ąĖ, ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, čĆą░čüčłąĖčĆąĖčéčī čüč乥čĆčā čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čÅ ąĮą░ą┤ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčéą░ą╝ąĖ. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą▓čŗą│ą╗čÅą┤ąĖčé ą▓ą┐ąŠą╗ąĮąĄ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝, čćč鹊, ą║ąŠą│ą┤ą░ čā ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąŠ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ, ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ čāą┤ąĄą╗čÅą╗ąĖ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝ąĄ ┬½ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮąŠą│ąŠ┬╗ ąĖą┤ąĄą╣ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąŠčüą┐ąĖčéą░ąĮąĖčÅ ąĖ čüąŠčüčĆąĄą┤ąŠč鹊čćąĖą▓ą░ą╗ąĖ ą▓čüąĄ ąĖą╝ąĄą▓čłąĖąĄčüčÅ čā ąĮąĖčģ čüąĖą╗čŗ ąĮą░ čĆą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĖąĖ ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝čŗčģ ąĖąĮčüčéąĖčéčāč鹊ą▓ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ąĮą░ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĖ ą╝ąŠąĮąŠą┐ąŠą╗čīąĮąŠą╣ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ, ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĄą╣čüčÅ ą┐ąŠą┤ ą┐ąŠą╗ąĮčŗą╝ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĄą╝. ąĪąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, ąĮą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą▓čüąĄą│ąŠ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąĖą╝ąĄą╗ ą╝ąĄčüč鹊 ą┐čĆąŠčåąĄčüčü ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ ąĖą╗ąĖ čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ čłą║ąŠą╗ ąĖ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥č鹊ą▓ (ąŠą┤ąĮąĖą╝ ąĖąĘ ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąĖčģ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąŠą▓ ą╝ąŠąČąĄčé čüą╗čāąČąĖčéčī ąĮąĄčāą┤ą░čćąĮą░čÅ ą┐ąŠą┐čŗčéą║ą░ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░ ą£ąĖčéč鹥čĆą░ąĮą░ ą╗ąĖą║ą▓ąĖą┤ąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ąĖąĮčüčéąĖčéčāčé ą║ą░č鹊ą╗ąĖč湥čüą║ąĖčģ čłą║ąŠą╗) ąĖ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ čüčĆąŠą║ąŠą▓ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čłą║ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čāč湥ąĮąĖčÅ.┬│ŌüĖ
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĮąĖąĄ čŹč鹊ą│ąŠ čäą░ą║čéą░, ą░ čéą░ą║ąČąĄ č鹥čüąĮąŠ čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗčģ čü ąĮąĖą╝ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüąŠą▓ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą│ąŠ čüą▒ą╗ąĖąČąĄąĮąĖčÅ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗ąŠą▓ čü ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠą╝┬│Ōü╣┬ĀąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┐ąĖčüčŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖą╝ąĖ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ą▓ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĖ čü čŹčéą░čéąĖčüčéčüą║ąĖą╝ąĖ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅą╝ąĖ ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé ąĮąĄ čüč鹊ą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘčĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ, čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĄąĄ ą┐ąĄčĆąĄč乊čĆą╝čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ. ąÆ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, čāčüą╗čŗčłą░ą▓ ąŠ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠą╝ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ąĘą░ą┤ą░čéčī ą▓ąŠą┐čĆąŠčü: ą║ą░ą║ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ąŠąĮąŠ ą┤ąŠčüčéąĖčćčī čāčüą┐ąĄčģą░ ą▓ čŹč鹊ą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, ąĄčüą╗ąĖ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąĖą▓ąĄčƹȹĄąĮąŠ čŹčéąĖą║ąĄ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ? ąĪą░ą╝ čŹč鹊čé ąĘą░čģą▓ą░čé čāąČąĄ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčé ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą▓ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĖ. ąÜą░ą║ ąČąĄ ąŠąĮ ą╝ąŠą│ ą▒čŗčéčī ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗ąĄąĮ, ąĄčüą╗ąĖ čéą░ą║ąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄąĮčŗ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░čÄčé ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖąĄ ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ ą╗ąŠąČąĮčŗčģ ąĖą┤ąĄą╣ ąĖ ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮčŗ ą║ą░ą║ 菹Įą┤ąŠą│ąĄąĮąĮąŠ ą╝ąŠčéąĖą▓ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠčåąĄčüčü ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ?
ą¤čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ, čćč鹊 čéą░ą║ąŠąĄ čāą║ą╗ąŠąĮąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠ ą╗ąČąĖ ąĖ ąĮąĄą┐čĆą░ą▓ą┤ąĄ čéčĆąĄą▒čāąĄčé čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ą▓ąĮąĄčłąĮąĖčģ čüąĖą╗. ąśčüčéąĖąĮąĮą░čÅ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮą░ ąĘą░čēąĖčéąĖčéčī čüąĄą▒čÅ ą┐čĆąŠčüč鹊 ą▓ čüąĖą╗čā č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ąŠąĮą░ ąĖčüčéąĖąĮąĮą░. ąÉ ą╗ąŠąČąĮą░čÅ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ, čćč鹊ą▒čŗ čüąŠąĘą┤ą░čéčī ąĖ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čéčī ą░čéą╝ąŠčüč乥čĆčā ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąŠčĆčĆčāą┐čåąĖąĖ, ąĮčāąČą┤ą░ąĄčéčüčÅ ą▓ ą┐ąŠą┤ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą▓ąĮąĄčłąĮąĖą╝ąĖ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖčÅą╝ąĖ, ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čÄčēąĖą╝ąĖ čÅą▓ąĮąŠąĄ, ąŠčēčāčéąĖą╝ąŠąĄ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ ą╗čÄą┤ąĄą╣. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ą║ čŹčéąĖą╝ ą▓ąĄčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ čäą░ą║č鹊čĆą░ą╝, ą┐ąŠą┤ą║čĆąĄą┐ą╗čÅčÄčēąĖą╝ ąĖ čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░čÄčēąĖą╝ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÄ, čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąŠą▒čĆą░čéąĖčéčīčüčÅ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čÄ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąŠąĮčÅčéčī ą┐čĆąĖčćąĖąĮčŗ čāą┐ą░ą┤ą║ą░ čŹčéąĖą║ąĖ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ čĆąŠčüčéą░ čŹčéą░čéąĖąĘą╝ą░ ą▓ č鹥č湥ąĮąĖąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ 100-150 ą╗ąĄčé.Ōü┤Ōü░
ąØąĖąČąĄ čÅ ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤čā č湥čéčŗčĆąĄ čéą░ą║ąĖčģ čäą░ą║č鹊čĆą░ ąĖ ąŠą▒čŖčÅčüąĮčÄ ąĖčģ čĆą░ąĘą╗ą░ą│ą░čÄčēąĄąĄ ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ. ąÆčüąĄ ąŠąĮąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčé čüąŠą▒ąŠą╣ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ čüčéčĆčāą║čéčāčĆąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ą¤ąĄčĆą▓čŗą╣ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ŌĆö čŹč鹊 čüčéčĆčāą║čéčāčĆąĮąŠąĄ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĖąĘ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą╗ąĖčåąĄą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ. (ą¤čĆąŠč鹊čéąĖą┐ąŠą╝ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąŠąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą▒čŗą╗ą░ ą▒ąĖčüą╝ą░čĆą║ąŠą▓čüą║ą░čÅ ą¤čĆčāčüčüąĖčÅ, čü ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ čćą░čüč鹊 ą▒čĆą░ą╗ąĖ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą┤čĆčāą│ąĖčģ čüčéčĆą░ąĮ.) ąÆą╝ąĄčüč鹊 ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčŗ, čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĖąĘčāąĄą╝ąŠą╣ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖą╝ ą┐čĆą░ą▓čÅčēąĖą╝ ą║ą╗ą░čüčüąŠą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčé ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĮčŗąĄ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĄą╣ čĆąĄčüčāčĆčüčŗ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮą░ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖą╗ąĖ ąĮą░ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖąĄ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ąĖ ą┐ąŠą╗ąĖčåąĄą╣čüą║ąĖčģ čüąĖą╗, čüčéą░ą╗ą░ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą░čéčī ąĮąŠą▓ą░čÅ čüčéčĆčāą║čéčāčĆą░, ą┐čĆąĖ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čÄčéčüčÅ ą┐ąŠą║čāą┐ą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĖ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ąĮąĄ ą▓čģąŠą┤čÅčēąĖčģ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čéą░. ąĪ ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą▓čŗą┐ą╗ą░čé, ą┐čĆąĄą┤ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖą▓ąĖą╗ąĄą│ąĖą╣ č鹥ą╝ ąĖą╗ąĖ ąĖąĮčŗą╝ ą│čĆčāą┐ą┐ą░ą╝ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĖ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ą▒ąĄčüą┐ą╗ą░čéąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ┬½ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ┬╗ ą▒ą╗ą░ą│ ąĖ čāčüą╗čāą│ (ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ) ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┤ąĄą╗ą░ąĄčéčüčÅ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝čŗą╝ ąŠčé čüčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ąøčÄą┤ąĖ, ąĮąĄ čÅą▓ą╗čÅčÄčēąĖąĄčüčÅ čćą╗ąĄąĮą░ą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čéą░, ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄčéą░čÄčé ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮčāčÄ ą▓čŗą│ąŠą┤čā ąŠčé ąĄą│ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ąĖ ą┐ąŠč鹥čĆčÅ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ąŠąĘąĮą░čćą░ą╗ą░ ą▒čŗ ą┤ą╗čÅ ąĮąĖčģ ąŠčēčāčéąĖą╝čŗąĄ ą┐ąŠč鹥čĆąĖ ą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░čģ ą║ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ. ąÆą┐ąŠą╗ąĮąĄ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, čćč鹊 čŹčéą░ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéčī ą▓ąĄą┤ąĄčé ą║ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖčÄ čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą║ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÄ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĖ: 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖčÅ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐ąŠ-ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝čā čüčćąĖčéą░čéčīčüčÅ ą┤ąŠčüč鹊ą╣ąĮąŠą╣ ąŠčüčāąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ąĮąŠ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ą┐čĆąĄą┤ąŠčüčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čü č鹊čćą║ąĖ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ą▓ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüą╗čāčćą░čÅčģ ąĖą╝ąĄčÄčēąĄą│ąŠ ą┐čĆą░ą▓ąŠ ąĮą░ ą┐ąŠą╗čāč湥ąĮąĖąĄ ą┤ąŠčģąŠą┤ąŠą▓ ąŠčé čéą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ.
ą¤ąŠąĮąĖą╝ą░čÅ ąĄąĄ čĆą░ąĘą╗ą░ą│ą░čÄčēąĄąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĮą░ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ, ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą▓ąŠą▓ą╗ąĄą║ą░čÄčéčüčÅ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║čā ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąŻą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą┤ąŠą╗čÅ čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĮą░ ąĮčāąČą┤čŗ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čĆą░čüčģąŠą┤ą░ą╝ąĖ ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝. ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ą┤ą▓ą░ ą▓ąĖą┤ą░ čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓ ą╝ąŠą│čāčé ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░čéčī ą▓ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠą╝ ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĖąĖ ŌĆö ąĖ čéą░ą║ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ą┐ąŠą▓čüąĄą╝ąĄčüčéąĮąŠ ą▓ą┐ą╗ąŠčéčī ą┤ąŠ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅčłąĮąĄą│ąŠ ą┤ąĮčÅ, ŌĆö ąĮąŠ ąĖčģ ą╝ą░čüčłčéą░ą▒čŗ čāą╝ąĄąĮčīčłą░čÄčéčüčÅ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü č鹥ą╝. čćč鹊 čéčĆą░čéąĖčéčüčÅ ąĮą░ čåąĄą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ.Ōü┤┬╣
ąÆ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčé ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüč鹥ą╣ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ, ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ą░ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ąĄčé ąŠą┤ąĮčā ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ č乊čĆą╝, ą░ ąĘą░čćą░čüčéčāčÄ, ą║ą░ą║ ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ą¤čĆčāčüčüąĖąĖ, ąĖ ąŠą▒ąĄ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ. ąĪ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čŹč鹊┬ĀSozialpolitik, ąĖą╗ąĖ čéą░ą║ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ąĄą╝ąŠąĄ ┬½ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ą▒ą╗ą░ą│ąŠčüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ┬╗, ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░čÄčēąĄąĄ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąŠčé ┬½ąĖą╝čāčēąĖčģ┬╗ ąĖąĘ čćąĖčüą╗ą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ą▓ ą┐ąŠą╗čīąĘčā ┬½ąĮąĄąĖą╝čāčēąĖčģ┬╗. ąĪ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čŹč鹊 ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ą░ ą║ą░čĆč鹥ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüą░ ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čŹą║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ąĖ, ąŠąĘąĮą░čćą░čÄčēą░čÅ, ą║ą░ą║ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠ, ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąŠčé ┬½ąĮąĄąĖą╝čāčēąĖčģ┬╗ ąĖą╗ąĖ ┬½ąĄčēąĄ ąĮąĄąĖą╝čāčēąĖčģ┬╗ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ą║ ┬½čāąČąĄ ąĖą╝čāčēąĖą╝┬╗, čé. ąĄ. ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅą╝, čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗą╝ čü čāąČąĄ čüą╗ąŠąČąĖą▓čłąĖą╝čüčÅ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąŠą╝. ą¤čĆąĖ ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĖ┬ĀSozialpolitik┬ĀąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą░ą┐ąĄą╗ą╗ąĖčĆčāčÄčé ą║ čāčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ čāčüčéčĆąĄą╝ą╗ąĄąĮąĖčÅą╝ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąĖ, ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ čćą░čüčéčī ąĄąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čĆą░ąĘą▓čĆą░čēąĄąĮą░ ąĮą░čüč鹊ą╗čīą║ąŠ, čćč鹊 ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ąĄčé ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčāčÄ čŹą║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖčÄ ą▓ ąŠą▒ą╝ąĄąĮ ąĮą░ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠą╝ ┬½čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ čüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ąŠčüčéąĖ┬╗. ą¦č鹊 ą║ą░čüą░ąĄčéčüčÅ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĖ ą║ą░čĆč鹥ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ ąĖ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüą░, č鹊 ąĘą┤ąĄčüčī ąĖą╝ąĄąĄčé ą╝ąĄčüč鹊 ą░ą┐ąĄą╗ą╗čÅčåąĖčÅ ą║ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖą▓ąĮčŗą╝ ąĮą░čüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÅą╝, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ čüčĆąĄą┤ąĖ ą▒čāčĆąČčāą░ąĘąĮąŠą│ąŠ ąĖčüč鹥ą▒ą╗ąĖčłą╝ąĄąĮčéą░, ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐čĆąĖą╣čéąĖ ą║ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĄ ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ (ąĮąĄą║ąŠąĮčéčĆą░ą║čéąĮąŠą│ąŠ) ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖčÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠą╝ ą▓ ąŠą▒ą╝ąĄąĮ ąĮą░ ą┐čĆąĖą▓ąĄčƹȹĄąĮąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ą║ čüąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÄ┬Āčüčéą░čéčāčü-ą║ą▓ąŠ. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, 菹│ą░ą╗ąĖčéą░čĆąĮčŗą╣ čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖąĘą╝ ąĖ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖąĘą╝ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░čÄčéčüčÅ ą▓ čŹčéą░čéąĖčüčéčüą║ąĖąĄ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ. ą×ąĮąĖ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĖčĆčāčÄčé ą┤čĆčāą│ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╝ ą▓ č鹊ą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ, čćč鹊 ąŠčéčüčéą░ąĖą▓ą░čÄčé ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ, ąĮąŠ ąĖčģ čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖčćą░čÄčēąĖąĄ čāčüąĖą╗ąĖčÅ čüčģąŠą┤čÅčéčüčÅ ąĖ ąŠą▒čŖąĄą┤ąĖąĮčÅčÄčéčüčÅ ą▓ ąŠą▒čēąĄą╣ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĄ čŹčéą░čéąĖąĘą╝ą░ ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ.
ąöčĆčāą│ąĖą╝ čüčéčĆčāą║čéčāčĆąĮčŗą╝ čüą┤ą▓ąĖą│ąŠą╝, čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą▓čłąĖą╝ ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗ąĄąĮąĖčÄ čŹčéąĖą║ąĖ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, čüčéą░ą╗ąŠ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠąĮčüčéąĖčéčāčåąĖą╣ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓. ąÆ ąŠčéą▓ąĄčé ąĮą░ ą▓čŗąĘąŠą▓, ą┐čĆąĄą┤čŖčÅą▓ą╗čÅąĄą╝čŗą╣ čŹčéąĖą║ąŠą╣ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ ąŠčé čüą░ą╝ąŠą┤ąĄčƹȹ░ą▓ąĮąŠą╣ ą╝ąŠąĮą░čĆčģąĖąĖ ąĖą╗ąĖ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠą╗ąĖą│ą░čĆčģąĖąĖ ą║ č鹊ą╝čā čéąĖą┐čā ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĮčŗąĮąĄ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĖąĘą▓ąĄčüč鹥ąĮ ąĮą░ą╝ ą┐ąŠą┤ ąĖą╝ąĄąĮąĄą╝ ą╗ąĖą▒ąĄčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĖ.Ōü┤┬▓┬ĀąĢčüą╗ąĖ čĆą░ąĮčīčłąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ą║ą░ą║ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčé ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĖą▓ą░ą╗ąŠ ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ čüąĄą▒čÅ ąĖ/ąĖą╗ąĖ ąĘą░ąĮčÅčéąĖąĄ č鹥čģ ąĖą╗ąĖ ąĖąĮčŗčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖą╣ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čüąĖčüč鹥ą╝čŗ ąĘą░ą║ąŠąĮąŠą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ą░, ąĮąŠčüąĖą▓čłąĄą│ąŠ ą║ą░čüč鹊ą▓čŗą╣ ąĖą╗ąĖ ą║ą╗ą░čüčüąŠą▓čŗą╣ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ, č鹊 č鹥ą┐ąĄčĆčī ą║ąŠąĮčüčéąĖčéčāčåąĖčÅ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░ąĄčé, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ą▓ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĄ, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą╗čÄą▒ąŠą╝čā č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║čā ąĘą░ąĮčÅčéčī ą╗čÄą▒ąŠą╣ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąŠčüčé ąĖ ą┐čĆąĄą┤ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé ą▓čüąĄąŠą▒čēąĖąĄ ąĖ čĆą░ą▓ąĮčŗąĄ ą┐čĆą░ą▓ą░ čāčćą░čüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī ą▓ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĖ ąĖ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ąĘą░ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąĮą░ ąĮąĄąĄ.
ąóąĄą┐ąĄčĆčī ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ŌĆö ą░ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ┬½ąĘąĮą░čéąĮčŗąĄ ą╗čÄą┤ąĖ┬╗ ŌĆö ą┐ąŠą╗čāčćą░ąĄčé ąĘą░ą║ąŠąĮąĮčāčÄ ┬½ą┤ąŠą╗čÄ┬╗ ą▓ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄ, ąĖ, čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, čāą╝ąĄąĮčīčłą░ąĄčéčüčÅ ą▓ąŠą╗čÅ ą║ čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ąĄą│ąŠ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ. ąźąŠčéčÅ čŹą║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖčÅ ąĖ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░čåąĖčÅ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐ąŠ-ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝čā ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ ą┐ą╗ąŠčģąĖą╝ ą┤ąĄą╗ąŠą╝, ąĮąŠ ą╗čÄą┤ąĖ ąĄčüčéčī ą╗čÄą┤ąĖ, ąĖ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ ą║ąŠąĮčåąŠą▓ ąŠąĮąŠ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐ąŠą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ ąĮąĄ čéą░ą║ąĖą╝ čāąČ ą┤čāčĆąĮčŗą╝, ąĄčüą╗ąĖ ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą▓ ąĮąĄą╝ ą┐ąŠčāčćą░čüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī. ą¤čĆąĖč湥ą╝ ąĄčüą╗ąĖ čĆą░ąĮčīčłąĄ ą░ą╝ą▒ąĖčåąĖąĖ ą▓ą╗ą░čüč鹊ą╗čÄą▒čåąĄą▓, ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČą░čēąĖčģ ą║ ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖąĖ, ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĮąĄčāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ, č鹊 č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ą░čüčī ąĖąĮčüčéąĖčéčāčåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮą░čÅ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┤ą╗čÅ ąĖčģ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ.
ą”ąĄąĮąŠą╣ ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĘą░čåąĖąĖ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ą░ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ą▓ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ čĆą░ąĘą▓čĆą░čēą░ąĄčé ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą┐ąĄčĆąĄčüčéą░ąĄčé ąŠčüąŠąĘąĮą░ą▓ą░čéčī č鹊čé čäčāąĮą┤ą░ą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗą╣ čäą░ą║čé, čćč鹊 ą░ą║čé 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ ąĖ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░čåąĖąĖ ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ą▓ąĖą┤ąĖą╝čŗčģ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ ąĖ ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅčģ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ č鹥ą╝ ąČąĄ čüą░ą╝čŗą╝ ą▓ąĮąĄ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčé č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ą║ ąĖ ą║ąĄą╝ ąŠąĮ ąĘą░ą┤čāą╝ą░ąĮ ąĖ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗ąĄąĮ. ąÆą╝ąĄčüč鹊 čŹč鹊ą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ čüąŠą▒ą╗ą░ąĘąĮčÅąĄčé ą┐ąŠą┤ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ąĖą┤ąĄąĄą╣ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 čéą░ą║ąĖąĄ ą░ą║čéčŗ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą╗ąĄą│ąĖčéąĖą╝ąĮčŗą╝ąĖ, ąĄčüą╗ąĖ ą║ą░ąČą┤ąŠą╝čā ą│ą░čĆą░ąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąŠ ą┐čĆą░ą▓ąŠ ą│ąŠą╗ąŠčüą░ ą┐ąŠ ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčēąĄą│ąŠ ąĖ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą╝ąŠąČąĄčé ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣-č鹊 č乊čĆą╝ąĄ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī čāčćą░čüčéąĖąĄ ą▓ ąĖąĘą▒čĆą░ąĮąĖąĖ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠčüčéąĮčŗčģ ą╗ąĖčå ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░.Ōü┤┬│
ąŁčéą░ čĆą░ąĘą╗ą░ą│ą░čÄčēą░čÅ čĆąŠą╗čī ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĘą░čåąĖąĖ ą║ą░ą║ čüčéąĖą╝čāą╗ą░ ą║ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░ąĮąĖčÄ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čü ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ą┐čĆąŠąĮąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčīčÄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮą░ ąæąĄčĆčéčĆą░ąĮąŠą╝ ą┤ąĄ ą¢čÄą▓ąĄąĮąĄą╗ąĄą╝:
ąĪ XII ą┐ąŠ XVIII ą▓ą▓. ą▓ą╗ą░čüčéčī ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ ąĮąĄą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮąŠ čĆąŠčüą╗ą░. ąŁč鹊čé ą┐čĆąŠčåąĄčüčü ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ ą▓čüąĄ, ą║č鹊 ąĄą│ąŠ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗, ąĖ ąŠąĮ ą┐ąŠą▒čāąČą┤ą░ą╗ ąĖčģ ą║ ąĮąĄą┐čĆąĄą║čĆą░čēą░čÄčēąĄą╝čāčüčÅ ą┐čĆąŠč鹥čüčéčā ąĖ ą║ ąČąĄčüčéą║ąŠą╣ čĆąĄą░ą║čåąĖąĖ. ąÆ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ čŹč鹊čé čĆąŠčüčé ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗čüčÅ ą▓čüąĄ čāčüą║ąŠčĆčÅčÄčēąĖą╝ąĖčüčÅ č鹥ą╝ą┐ą░ą╝ąĖ, ąĖ ąĄą│ąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ąŠ ą║ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĄą╝čā čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÄ ą╝ąĖą╗ąĖčéą░čĆąĖąĘą╝ą░. ąś č鹥ą┐ąĄčĆčī ą╝čŗ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄą╝ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░, ąĮąĄ ą┐čĆąŠč鹥čüčéčāąĄą╝ ąĖ ąĮąĄ čĆąĄą░ą│ąĖčĆčāąĄą╝. ąØą░čłąĄ ą▒ąĄąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ ŌĆöčŹč鹊 ąĮąŠą▓čłąĄčüčéą▓ąŠ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąÆą╗ą░čüčéčī ąŠą▒čÅąĘą░ąĮą░ č鹊ą╣ ą┤čŗą╝ąŠą▓ąŠą╣ ąĘą░ą▓ąĄčüąĄ, ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąŠąĮą░ čüąĄą▒čÅ ą┐čĆąĖą║čĆčŗą╗ą░. ąĀą░ąĮčīčłąĄ ąŠąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ą▓ąĖą┤ąĖą╝ą░, čÅą▓ą╗ąĄąĮą░ ą▓ ą╗ąĖčćąĮąŠčüčéąĖ ą║ąŠčĆąŠą╗čÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĮąĄ ąŠčéčĆąĖčåą░ą╗ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤ąĖąĮąŠą╝, ąĖ ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĖčéčī č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖąĄ čüčéčĆą░čüčéąĖ. ąóąĄą┐ąĄčĆčī, ą┐ąŠą┤ ą┐čĆąĖą║čĆčŗčéąĖąĄą╝ ą░ąĮąŠąĮąĖą╝ąĮąŠčüčéąĖ, ąÆą╗ą░čüčéčī ąĘą░čÅą▓ą╗čÅąĄčé, čćč鹊 ąĮąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé čüą░ą╝ą░ ą┐ąŠ čüąĄą▒ąĄ, ą░ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▒ąĄąĘą╗ąĖčćąĮčŗą╝ ąĖ ą▒ąĄčüčüčéčĆą░čüčéąĮčŗą╝ ąĖąĮčüčéčĆčāą╝ąĄąĮč鹊ą╝ ąŠą▒čēąĄą╣ ą▓ąŠą╗ąĖ. ąØąŠ čŹč鹊 ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮą░čÅ čäąĖą║čåąĖčÅ. ŌĆ” ąØčŗąĮąĄ, ą║ą░ą║ ąĖ ą▓čüąĄą│ą┤ą░, ąÆą╗ą░čüčéčī ąĮą░čģąŠą┤ąĖčéčüčÅ ą▓ čĆčāą║ą░čģ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĖčĆčāčÄčé ąĄąĄ čĆčŗčćą░ą│ąĖ: ąÆčüąĄ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ čüą▓ąŠą┤čÅčéčüčÅ ą║ č鹊ą╝čā, čćč鹊 č鹥ą┐ąĄčĆčī čā čāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅąĄą╝čŗčģ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ą░čüčī ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ ą╝ąĄąĮčÅčéčī ą┐ąĄčĆčüąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ č鹥čģ, ą║č鹊 ą┤ąĄčƹȹĖčé ąÆą╗ą░čüčéčī ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ čĆčāą║ą░čģ. ąĪ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, čŹč鹊 ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗čÅąĄčé ąÆą╗ą░čüčéčī, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ą▓ąŠą╗ąĖ, ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĖčĆčāčÄčēąĖąĄ ąČąĖąĘąĮčī ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ą░, ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī ą┐ąŠ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖčÄ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ą░ ąĘą░ą╝ąĄąĮąĄąĮčŗ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠą╗čÅą╝ąĖ, ą║ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąŠąĮąŠ ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░ąĄčé ą▒ąŠą╗čīčłąĄąĄ ą┤ąŠą▓ąĄčĆąĖąĄ. ąØąŠ, ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░čÅ ą┤ą╗čÅ ą▓čüąĄčģ ą░ą╝ą▒ąĖčåąĖąŠąĘąĮčŗčģ ąĖ čéą░ą╗ą░ąĮčéą╗ąĖą▓čŗčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ą┐ąĄčĆčüą┐ąĄą║čéąĖą▓čŗ ą┤ąŠčüčéąĖąČąĄąĮąĖčÅ ąÆą╗ą░čüčéąĖ, čŹč鹊 čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą╝ąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╗ąĄą│č湥čé čĆą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĖąĄ ąÆą╗ą░čüčéąĖ. ą¤čĆąĖ ┬½čüčéą░čĆąŠą╝ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĄ┬╗ ą╗ąĖą┤ąĄčĆčŗ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ą░, ąĘąĮą░ą▓čłąĖąĄ, čćč鹊 ąĮąĄ ąĖą╝ąĄčÄčé ąĮąĖą║ą░ą║ąĖčģ čłą░ąĮčüąŠą▓ ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī ą┤ąŠą╗čÄ ąÆą╗ą░čüčéąĖ, ą▓ čüą╗čāčćą░ąĄ ą╝ą░ą╗ąĄą╣čłąĄą│ąŠ ą┐ąŠčüčÅą│ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ čü ąĄąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ą▓čŗčüčéčāą┐ą░ą╗ąĖ čü ąĄąĄ ąŠčüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄą╝. ąÆ ąĮą░čłąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą▓ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĄ ą╝ąŠąČąĄčé čüčéą░čéčī ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆąŠą╝, ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ ąĘą░ą▒ąŠčéąĖčéčüčÅ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊ą▒čŗ ąŠą▒čāąĘą┤ą░čéčī ą║ąŠąĮč鹊čĆčā, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ąŠą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ąŠąĮ čüą░ą╝ ą╝ąŠąČąĄčé ą▓ąŠąĘą│ą╗ą░ą▓ąĖčéčī, ąĖą╗ąĖ čüčŗą┐ą░ąĮčāčéčī ą┐ąĄčüą║ą░ ą▓ ą╝ą░čłąĖąĮčā, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ąŠąĮ čüą░ą╝ čüąŠą▒ąĖčĆą░ąĄčéčüčÅ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐čĆąĖą┤ąĄčé ąĄą│ąŠ ąŠč湥čĆąĄą┤čī. ąŁčéąĖą╝ ąĖ ąŠą▒čŖčÅčüąĮčÅąĄčéčüčÅ ą▓čüąĄą╝ąĄčĆąĮąŠąĄ čüąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĄ čĆą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĖčÄ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą║čĆčāą│ąŠą▓ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ą░.Ōü┤Ōü┤
ąĢčēąĄ ą┤ą▓ą░ čäą░ą║č鹊čĆą░, ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą▓čłąĖąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā ą░ą┤ą░ą┐čéąĖčĆąŠą▓ą░čéčīčüčÅ, ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčīčüčÅ čü čüą░ą╝ąŠą╣ ąĮąĖąĘą║ąŠą╣ ąŠčéą╝ąĄčéą║ąĖ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą▓čŗčĆą░čüčéąĖ ą┤ąŠ ąĮčŗąĮąĄčłąĮąĖčģ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓, čüą▓čÅąĘą░ąĮčŗ čüąŠ čüč乥čĆąŠą╣ ą╝ąĄąČą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖą╣. ąĪ ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ą║ą░ą║ čāąČąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąŠčüčī čĆą░ąĮąĄąĄ ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ čāą┐ąŠą╝čÅąĮčāč鹊 ą▓ąĮąŠą▓čī ą┤ąĄ ą¢čÄą▓ąĄąĮąĄą╗ąĄą╝, ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą║ą░ą║ ą╝ąŠąĮąŠą┐ąŠą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖąĄ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ-菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆčŗ čüą║ą╗ąŠąĮąĮčŗ ą▓ą▓čÅąĘčŗą▓ą░čéčīčüčÅ ą▓ ą╝ąĄąČą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ. ąĢčüą╗ąĖ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░č鹊čĆčüą║ą░čÅ ą▓ą╗ą░čüčéčī ą▓ąĮčāčéčĆąĖ čüčéčĆą░ąĮčŗ čüą╗ą░ą▒ą░, č鹊 čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ čüčéčĆąĄą╝ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą║ąŠą╝ą┐ąĄąĮčüąĖčĆąŠą▓ą░čéčī čŹčéąĖ ą┐ąŠč鹥čĆąĖ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą╣ 菹║čüą┐ą░ąĮčüąĖąĖ. ąØąŠ čŹč鹊 ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ ąĮąĄčāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ąĖąĘ-ąĘą░ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖčÅ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĖ. ąØąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ą░čÅ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ą░ čüąŠąĘą┤ą░ąĄčéčüčÅ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ, čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĘą░čåąĖąĖ. (ążą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čÄčé čŹčéąĖčģ ą╝ąĄčĆ, ąŠą▒čĆąĄč湥ąĮčŗ ąĮą░ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą╗čÄą▒ąŠą╣ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ!) ąŁčéą░ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ą░ ąĘą░č鹥ą╝ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ ą║ą░ą║ čéčĆą░ą╝ą┐ą╗ąĖąĮ ą┤ą╗čÅ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ 菹║čüą┐ą░ąĮčüąĖąŠąĮąĖčüčéčüą║ąĖčģ čāčüčéčĆąĄą╝ą╗ąĄąĮąĖą╣ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░.
ą¤ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ, čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖ ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĘą░čåąĖčÅ čüą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ čüąĄą▒ąĄ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░čÄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č鹥čüąĮčāčÄ ąĖą┤ąĄąĮčéąĖčäąĖą║ą░čåąĖčÄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ čü ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠą╝ ąĖ ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ą┐ąŠčćčéąĖ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖ ą▓ąĄą┤čāčé ą║ čāčüąĖą╗ąĄąĮąĖčÄ ą┐čĆąŠč鹥ą║čåąĖąŠąĮąĖčüčéčüą║ąŠą│ąŠ, ą░ č鹊 ąĖ ąŠčéą║čĆčŗč鹊 ą▓čĆą░ąČą┤ąĄą▒ąĮąŠą│ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ ą║ąŠ ą▓čüąĄą╝ ┬½čćčāąČą░ą║ą░ą╝┬╗. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĖ, ą┐ąŠą╗čīąĘčāčÄčēąĖąĄčüčÅ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąĖą╗ąĄą│ąĖčÅą╝ąĖ, ą┐ąŠ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĄ čüą▓ąŠąĄą╣ ą▓čĆą░ąČą┤ąĄą▒ąĮčŗ ą║ ┬½ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╣┬╗ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖąĖ. ąÆčüąĄ čŹč鹊 ą┤ą░ąĄčé ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā ąĖ ąĄą│ąŠ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖčüą╗čāąČąĮąĖą║ą░ą╝ čéčĆą░ąĮčüč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą▓ąĮąŠą▓čī ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĮčāčÄ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║čā ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą│čĆąĄą╝čāčćčāčÄ čüą╝ąĄčüčī ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ą░, čüąŠąĘą┤ą░ą▓ą░čÅ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮčāčÄ ąŠčüąĮąŠą▓čā ą┤ą╗čÅ ąĖąĮč鹥ą│čĆą░čåąĖąĖ čāčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ-čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ, ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĮą░čüčéčĆąŠąĄąĮąĖą╣.Ōü┤ŌüĄ
ą¤ąŠą┤ą║čĆąĄą┐ą╗čÅąĄą╝čŗąĄ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ąŠą╝, ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĮą░čćąĖąĮą░čÄčé ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖčéčī 菹║čüą┐ą░ąĮčüąĖąŠąĮąĖčüčéčüą║ąĖą╣ ą║čāčĆčü. ąØą░čćąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č湥ą╝ ą▓ąĄą║ąŠą▓ą░čÅ, ą┐ąŠčćčéąĖ ąĮąĄą┐čĆąĄčĆčŗą▓ąĮą░čÅ č湥čĆąĄą┤ą░ ą▓ąŠą╣ąĮ ąĖ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖą╣, ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤čÅčēąĖčģ ąŠą┤ąĮą░ ą┤čĆčāą│čāčÄ ą▓ ąČąĄčüč鹊ą║ąŠčüčéąĖ ąĖ čĆą░ąĘčĆčāčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ, ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą▓ąŠą▓ą╗ąĄą║ą░čÄčēąĖčģ ą╝ąĖčĆąĮąŠąĄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ. ą×ąĮą░ ą┤ąŠčüčéąĖą│ą╗ą░ ą║čāą╗čīą╝ąĖąĮą░čåąĖąĖ ą▓ ą┤ą▓čāčģ ą╝ąĖčĆąŠą▓čŗčģ ą▓ąŠą╣ąĮą░čģ, čģąŠčéčÅ, ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ, ąĖą╝ąĖ ąĮąĄ ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗ą░čüčī. ąöąĄą╣čüčéą▓čāčÅ ąŠčé ąĖą╝ąĄąĮąĖ čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ, ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ ąĖą╗ąĖ ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĮą░čåąĖą╣, ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą▓ąŠą╣ąĮ čĆą░čüčłąĖčĆąĖą╗ąĖ čüą▓ąŠąĖ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ą┤ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓, ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ąĖ ą┤ą░ąČąĄ čĆąĖą╝čüą║ą░čÅ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖčÅ ą║ą░ąČąĄčéčüčÅ ąĮąĄąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝, ąĖ čüč鹥čĆą╗ąĖ čü ą╗ąĖčåą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą┤čćąĖąĮąĖą╗ąĖ ąĖąĮąŠąĘąĄą╝ąĮąŠą╝čā ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓čā ą▓čüąĄ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčéą░čÄčēąĄąĄ čćąĖčüą╗ąŠ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą▓ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠą╝ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ ąĮą░čĆąŠą┤ąŠą▓.Ōü┤ŌüČ
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ą░ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐čĆąĖąĮąĄčüą╗ą░ čü čüąŠą▒ąŠą╣ 菹║čüą┐ą░ąĮčüąĖčÄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ą▓ąŠą▓ąĮąĄ. ąÆąŠą╣ąĮą░, ą║ą░ą║ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠą┤čāą║čé ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ą░, ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ čāčüąĖą╗ąĄąĮąĖčÅ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą▓ ąĄą│ąŠ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ąĖ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čüčéčĆą░ąĮčŗ. ąÜą░ąČą┤ą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé čćčĆąĄąĘą▓čŗčćą░ą╣ąĮčāčÄ čüąĖčéčāą░čåąĖčÄ ą▓ąĮčāčéčĆąĖ čüčéčĆą░ąĮčŗ. ąÜčĆąĖčéąĖč湥čüą║ąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ čéčĆąĄą▒čāąĄčé ąĖ ą┐čĆąĄą┤ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠąĄ ąŠą┐čĆą░ą▓ą┤ą░ąĮąĖąĄ čāčüąĖą╗ąĄąĮąĖčÄ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čÅ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĮą░ą┤ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄą╝. ąŁč鹊čé čāčüąĖą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čī, ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĮčŗą╣ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą║čĆąĖąĘąĖčüąŠą▓, ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą▓ąĮąŠą▓čī ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓ ą╝ąĖčĆąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ. ąØąŠ ąŠąĮ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēą░ąĄčéčüčÅ ą║ ą┤ąŠą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝čā čāčĆąŠą▓ąĮčÄ. ąØą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ą║ą░ąČą┤ą░čÅ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ ąĘą░ą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░ (ą░ ą▓čŗąČąĖčéčī ą╝ąŠą│čāčé, ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ, č鹊ą╗čīą║ąŠ čāčüą┐ąĄčłąĮčŗąĄ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░) ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄčéčüčÅ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ ąĖ ąĄą│ąŠ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗ą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą┐ą░ą│ą░ąĮą┤čŗ ąĖą┤ąĄąĖ, čćč鹊 č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčÅ ą▒ą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ąĮą░čåąĖąĖ ąĖ čĆą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĖčÄ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ąŠčćąĖą╣ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī čĆą░ąĘą│čĆąŠą╝ąĖčéčī ┬½ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą│ąŠ ą░ą│čĆąĄčüčüąŠčĆą░┬╗ ąĖ čüą┐ą░čüčéąĖ čĆąŠą┤ąĮčāčÄ čüčéčĆą░ąĮčā ąĖ čćč鹊 čĆąĄčåąĄą┐čé čŹč鹊ą│ąŠ čāčüą┐ąĄčģą░ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▒čŗčéčī čüąŠčģčĆą░ąĮąĄąĮ, čćč鹊ą▒čŗ ą▒čŗčéčī ą│ąŠč鹊ą▓čŗą╝ąĖ ą║ ąŠčéčĆą░ąČąĄąĮąĖčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░ą┐ą░čüčéąĖ. ąóą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą║ą░ąČą┤ą░čÅ ąĮąŠą▓ą░čÅ čāčüą┐ąĄčłąĮą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░, ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮą░čÅ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖą╝ čĆąĄąČąĖą╝ąŠą╝ ┬½ą┐ąŠą▒ąĄą┤ąĖą▓čłąĄą╣┬╗ ąĮą░čåąĖąĖ, ąĖą╝ąĄąĄčé čüą▓ąŠąĖą╝ ąĖč鹊ą│ąŠą╝ ą┤ąŠčüčéąĖąČąĄąĮąĖąĄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ čĆąĄą║ąŠčĆą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┤ą╗čÅ ą╝ąĖčĆąĮąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čÅ. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą┐ąŠą▒ąĄą┤ą░ ąĄčēąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ąĄčé ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ čāčüčéčĆąŠąĖčéčī ąĄčēąĄ ą║ą░ą║ąŠą╣-ąĮąĖą▒čāą┤čī ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╣ ą║čĆąĖąĘąĖčü, ąĖąĘ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąŠąĮąŠ ąĖą╝ąĄąĄčé čłą░ąĮčü ą▓čŗą╣čéąĖ ą┐ąŠą▒ąĄą┤ąĖč鹥ą╗ąĄą╝.Ōü┤ŌüĘ
ąÜą░ąČą┤čŗą╣ ąĮąŠą▓čŗą╣ ą╝ąĖčĆąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╣ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ą╝ąĄčłą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą┐čĆąĄą┤čŗą┤čāčēąĖą╝. ąÆąĮčāčéčĆąĖ čüčéčĆą░ąĮčŗ ŌĆö ą▓ č乊čĆą╝ąĄ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą│ąŠ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ąĮą░ čüą┐ąĄą║čéčĆ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüč鹥ą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┤ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĄąĮąŠ ą▓čŗą▒ąĖčĆą░čéčī čćą░čüčéąĮčŗą╝ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ą░ą╝ ą▓ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČą░čēąĄą│ąŠ ąĖą╝ ąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ą░. ąÆąŠ ą▓ąĮąĄčłąĮąĖčģ ą┤ąĄą╗ą░čģ ŌĆö ą▓ č乊čĆą╝ąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ č鹊čĆą│ąŠą▓čŗčģ ą▒ą░čĆčīąĄčĆąŠą▓ ąĖ, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüčéčĆąŠą│ąĖčģ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖą╣ ąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ (ą┐čĆąĄčüą╗ąŠą▓čāčéčŗąĄ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ čŹą╝ąĖą│čĆą░čåąĖąĖ ąĖ ąĖą╝ą╝ąĖą│čĆą░čåąĖąĖ). ąś ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ąĮąŠą▓čŗą╣ ą╝ąĖčĆąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤, ąĮąĄ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮčÄčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ą┐ąŠč鹊ą╝čā, čćč鹊 ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮ ąĮą░ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓čłąĄą╣čüčÅ ą┤ąĖčüą║čĆąĖą╝ąĖąĮą░čåąĖąĖ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮčåąĄą▓ ąĖ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ č鹊čĆą│ąŠą▓ą╗ąĖ, ą╗ąĖą▒ąŠ ąĮąĄčüąĄčé ą▓ čüąĄą▒ąĄ ąĄčēąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╣ čĆąĖčüą║ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčäą╗ąĖą║čéą░, ą╗ąĖą▒ąŠ ąČąĄ ą┐ąŠą┤čéą░ą╗ą║ąĖą▓ą░ąĄčé čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĖąĄ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą║ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖčÄ ą┤ą▓čāčüč鹊čĆąŠąĮąĮąĖčģ ąĖą╗ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠčüč鹊čĆąŠąĮąĮąĖčģ ą╝ąĄąČą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čüąŠą│ą╗ą░čłąĄąĮąĖą╣, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░ ą║ą░čĆč鹥ą╗ąĖąĘą░čåąĖčÄ ąĖčģ ą▓ą╗ą░čüčéąĮčŗčģ čüčéčĆčāą║čéčāčĆ ąĖ, čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, čüąŠą▓ą╝ąĄčüčéąĮčāčÄ čŹą║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖčÄ ąĖ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░čåąĖčÄ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓čüąĄčģ čüčéčĆą░ąĮ-čćą╗ąĄąĮąŠą▓.Ōü┤ŌüĖ
ąśąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ, ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłąĄą┤čłąĖąĄ ą▓ čéčĆąĄčģ ą┐ąĄčĆąĄčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅčģ, ąĮąĄąĖąĘą▒ąĄąČąĮąŠ ą┐ąŠą▓ą╗ąĄą║ą╗ąĖ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĮąŠ, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ąĖąĘ-ąĘą░ ąĮąĄą┐čĆąĄą║čĆą░čēą░čÄčēąĄą│ąŠčüčÅ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░ ą╝ąĄąČą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖč湥čüčéą▓ą░, ą║čĆąĖąĘąĖčüąŠą▓ ąĖ ą▓ąŠą╣ąĮ. ąÆ ąŠčéą╗ąĖčćąĖąĄ ąŠčé ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ, ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĘą░čåąĖąĖ ąĖ ą╝ąĖą╗ąĖčéą░čĆąĖąĘą░čåąĖąĖ, čŹč鹊 ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĮąĄ čüč鹊ą╗čīą║ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹊ą╝ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ (č鹊čćąĮąŠ čéą░ą║ ąČąĄ, ą║ą░ą║ ąĖ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą╝ąĄąČą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮčåąĖąĖ ąĮąĄ ąĄčüčéčī čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄąĮąĮčŗčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖą╣ č鹊ą│ąŠ ąĖą╗ąĖ ąĖąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░), čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ, ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÅ ą╝ąŠą┤ąĮčāčÄ čģą░ą╣ąĄą║ąŠą▓čüą║čāčÄ č鹥čĆą╝ąĖąĮąŠą╗ąŠą│ąĖčÄ, ąĮąĄą┐čĆąĄą┤ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄąĮąĮčŗą╝ čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄą╝ č鹊ą│ąŠ čäą░ą║čéą░, čćč鹊 ą┐čĆąĖ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, ą┤ąŠą╝ąĖąĮąĖčĆčāčÄčēąĄą│ąŠ ąĮą░ą┤ ą▓čüąĄą╝ ą╝ąĖčĆąŠą╝, čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĄčé ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ąĮą░ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ ąĖ čüčéčĆčāą║čéčāčĆčā ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ąĖąĘ ąĮąĖčģ.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čŹč鹊 čüčéčĆčāą║čéčāčĆąĮąŠąĄ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą▒čŗčéčī čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąŠ ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠ ąŠčé č鹊ą│ąŠ, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą╗ąĖ ąŠąĮąŠ ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄąĮąĮčŗą╝ ąĖą╗ąĖ ąĮąĄą┐čĆąĄą┤ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄąĮąĮčŗą╝, ąĄčüą╗ąĖ ą╝čŗ čģąŠčéąĖą╝ ą┤ąŠčüčéąĖčćčī ą┐ąŠą╗ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░, čüąŠąĘą┤ą░ą▓čłąĄą│ąŠ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ čŹčéą░čéąĖčüčéčüą║ąĖą╣ ą╝ąĖčĆ. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠąĮąŠ ą▓ ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠą╝ ąĖč鹊ą│ąĄ ą┤ą░ąĄčé ąŠčéą▓ąĄčé ąĮą░ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü, ą┐ąŠč湥ą╝čā čéąĖą┐ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ ą╝ą░čüčüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĖ, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┤ąŠą╝ąĖąĮąĖčĆčāčÄčēąĖą╝ ą▓ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╝ ą╝ąĖčĆąĄ.
ąöąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī, ą║ą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąŚą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐čŗ ąĖ ąĪąĄą▓ąĄčĆąĮąŠą╣ ąÉą╝ąĄčĆąĖą║ąĖ, ą┐čĆąŠą╣ą┤čÅ ą▓ XIX-XX ą▓ąĄą║ą░čģ č湥čĆąĄąĘ čĆčÅą┤ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ, čüą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą┐čĆąĖą╣čéąĖ ą║ ą┤ąŠą╝ąĖąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ąĮą░ą┤ ą▓čüąĄą╝ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą╝ąĖčĆąŠą╝ ąĖ ąĮą░ą╗ąŠąČąĖčéčī ąĮą░ ąĮąĄą│ąŠ čüą▓ąŠą╣ ąŠčéą┐ąĄčćą░č鹊ą║. ąÆąŠą┐čĆąĄą║ąĖ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖčÅą╝ ą▒čāčĆąĮąŠ čĆą░čüčåą▓ąĄčéčłąĄą│ąŠ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠą│ąŠ čĆąĄą╗čÅčéąĖą▓ąĖąĘą╝ą░, ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ č鹊čé ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮčŗą╣ čäą░ą║čé, čćč鹊 čŹčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą┐čĆąŠą┤čāą║č鹊ą╝ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ čü ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮąŠą╣ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĄą╣. ąŁč鹊 čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą│ąŠ čĆą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ą░ čü ąĄą│ąŠ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ąĖą┤ąĄčÅą╝ąĖ ąĖąĮą┤ąĖą▓ąĖą┤čāą░ą╗čīąĮąŠą╣ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ąĖ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąŁčéą░ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ ąĘą░ą╗ąŠąČąĖą╗ą░ ąŠčüąĮąŠą▓čā ą┤ą╗čÅ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ čŹą║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░, ąĮą░ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤čÅčēąĄą│ąŠ č鹊, čćč鹊 ąĖą╝ąĄą╗ąŠčüčī ą▓ ą┤čĆčāą│ąĖčģ čüčéčĆą░ąĮą░čģ. ąś ąĮąĄčé ąĮąĖč湥ą│ąŠ čāą┤ąĖą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ, čćč鹊 ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąŚą░ą┐ą░ą┤ą░, ą┐ą░čĆą░ąĘąĖčéąĖč湥čüą║ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÅ ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠąĄ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ąŠ, čüą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąŠą┤ąĄčƹȹ░čéčī ą▓ąŠąĄąĮąĮčāčÄ ą┐ąŠą▒ąĄą┤čā ąĮą░ą┤ ą▓čüąĄą╝ąĖ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ.
ąś č鹊čćąĮąŠ čéą░ą║ ąČąĄ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą┐ąŠč湥ą╝čā ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓čā ąĘą░ą▓ąŠąĄą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčāčüčéčĆąŠąĄąĮąĮčŗčģ ąĮąĄ-ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮčŗčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ ŌĆö ą┐čĆą░ą▓ą┤ą░, ąĘą░ ą▓ąĄčüčīą╝ą░ ą┐čĆąĖą╝ąĄčćą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄą╝ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüčéčĆą░ąĮ čéąĖčģąŠąŠą║ąĄą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą▒ą░čüčüąĄą╣ąĮą░ ŌĆö ą▓ą┐ą╗ąŠčéčī ą┤ąŠ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅčłąĮąĄą│ąŠ ą┤ąĮčÅ ąĮąĄ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠą▓čŗčüąĖčéčī čüą▓ąŠą╣ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗą╣ čüčéą░čéčāčü ąĖą╗ąĖ ą┤ą░ąČąĄ čüčĆą░ą▓ąĮčÅčéčīčüčÅ čü ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ąŚą░ą┐ą░ą┤ą░ ą┤ą░ąČąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄ č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ą║ ąŠąĮąĖ ą┤ąŠą▒ąĖą╗ąĖčüčī ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠčüčéąĖ ąŠčé ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖą░ą╗ąĖąĘą╝ą░. ąØąĄ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĄą╣ čĆą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ą░ ąĖ ą╗ąĖą▒ąĄčĆą░ą╗ąĖąĘą╝ą░, čŹčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ąĖą╝ąĖčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ąĖą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčüą░ą┤ąĖčéčī ąĮą░ ą╝ąĄčüčéąĮčāčÄ ą┐ąŠčćą▓čā ┬½ą┐ąŠą▒ąĄą┤ąŠąĮąŠčüąĮčŗąĄ┬╗ ąĖą╝ą┐ąŠčĆčéąĮčŗąĄ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖąĘą╝ą░, ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖąĘą╝ą░, ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĖ ąĖ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ą░, čé. ąĄ. č鹥 čüą░ą╝čŗąĄ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ, ą┐ąŠčćčéąĖ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╝čā ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÄ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆą│ą░ą╗ą░čüčī ąĖąĮč鹥ą╗ą╗ąĄą║čéčāą░ą╗čīąĮą░čÅ čŹą╗ąĖčéą░ čŹčéąĖčģ čüčéčĆą░ąĮ ą▓ čģąŠą┤ąĄ ąŠą▒čāč湥ąĮąĖčÅ ą▓ ą×ą║čüč乊čĆą┤ąĄ ąĖ ąÜąĄą╝ą▒čĆąĖą┤ąČąĄ, ąōą░čĆą▓ą░čĆą┤čüą║ąŠą╝ ąĖ ąÜąŠą╗čāą╝ą▒ąĖą╣čüą║ąŠą╝ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čéą░čģ, ą▓ ąøąŠąĮą┤ąŠąĮąĄ, ą¤ą░čĆąĖąČąĄ ąĖ ąæąĄčĆą╗ąĖąĮąĄ. ąś, ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, čüą╝ąĄčüčī čŹčéąĖčģ čŹčéą░čéąĖčüčéčüą║ąĖčģ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖą╣, ąĮąĄ čüą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ąĄą╝ą░čÅ čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ-ąĮąĖą▒čāą┤čī čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čŹčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĄą╣ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ą┐čĆąĖąĮąĄčüą╗ą░ čü čüąŠą▒ąŠą╣ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║čāčÄ ą║ą░čéą░čüčéčĆąŠčäčā, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ čāąČąĄ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ą▒čŗčéčī ąĖ čĆąĄčćąĖ ąŠ ą║ą░ą║ąŠą╣-ą╗ąĖą▒ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čĆąŠą╗ąĖ ą▓ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĄ.Ōü┤Ōü╣
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ąŠč湥ą▓ąĖą┤ąĄąĮ ąŠčéą▓ąĄčé ąĮą░ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü: čćč鹊, ąĄčüą╗ąĖ čüčéčĆą░ąĮčŗ ąŚą░ą┐ą░ą┤ą░ ą▒čāą┤čāčé ą▓ąŠąĄą▓ą░čéčī ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą▒ąŠą╣? ą×čé č湥ą│ąŠ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖčé ą┐ąŠą▒ąĄą┤ą░ ą▓ čéą░ą║ąŠą╝ ą║ąŠąĮčäą╗ąĖą║č鹥, ąĖ č湥ą╝ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ? ą¤ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ, ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĘą░čåąĖčÅ ąĖ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ ą▓čŹč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, čāąČąĄ ąĮąĄ ą╝ąŠą│čāčé čüą╗čāąČąĖčéčī ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮąĖąĄą╝, čéą░ą║ ą║ą░ą║, ą┐ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ, ą▓čüąĄ čŹčéąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čāąČąĄ ą┐čĆąĖą▒ąĄą│ą╗ąĖ ą║ čéą░ą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĄ, čćč鹊ą▒čŗ čāą║čĆąĄą┐ąĖčéčī čüą▓ąŠčÄ ą▓ą╗ą░čüčéčī ą▓ąĮčāčéčĆąĖ čüčéčĆą░ąĮčŗ ąĖ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčīčüčÅ ą║ ą▓ąĮąĄčłąĮąĖą╝ ą▓ąŠą╣ąĮą░ą╝.
ą×čéą▓ąĄčé ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░ąĄčéčüčÅ ą▓ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą╝. ąÉąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮąŠ č鹊ą╝čā, ą║ą░ą║ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╝ąŠčēąĮą░čÅ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ čŹčéąĖą║ąĖ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čÅą▓ąĖą╗ą░čüčī ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ ą┤ąŠą╝ąĖąĮąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ ąĮą░ą┤ ąĮąĄ-ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮčŗą╝ ą╝ąĖčĆąŠą╝, č鹊čćąĮąŠ čéą░ą║ ąČąĄ,┬Āceteris paribus, ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą╗ąĖą▒ąĄčĆą░ą╗čīąĮą░čÅ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ą░ ąŠą▒čŖčÅčüąĮčÅąĄčé čāčüą┐ąĄčģ (ą▓ ą┤ąŠą╗ą│ąŠčüčĆąŠčćąĮąŠą╝ ą┐ą╗ą░ąĮąĄ) ą▓ ą▒ąŠčĆčīą▒ąĄ ąĘą░ ą▓čŗąČąĖą▓ą░ąĮąĖąĄ ą╝ąĄąČą┤čā čüą░ą╝ąĖą╝ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ąŚą░ą┐ą░ą┤ą░. ąóąĄ ąĖąĘ ąĮąĖčģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ čüą▓ąŠąĄą╣ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ čüčéčĆąĄą╝ąĖą╗ąĖčüčī čāą╝ąĄąĮčīčłąĖčéčī čĆąŠą╗čī ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖą▓ąĮąŠ ą╝ąŠčéąĖą▓ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĖ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąĖ ą╝ąŠčéąĖą▓ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąŠą╣ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ąĖą╝ąĄčÄčé č鹥ąĮą┤ąĄąĮčåąĖčÄ ąŠą┐ąĄčĆąĄąČą░čéčī čüą▓ąŠąĖčģ ą║ąŠąĮą║čāčĆąĄąĮč鹊ą▓ ąĮą░ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą░čĆąĄąĮąĄ.
ąĀąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ, ą┐čĆąĖ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą╗ąĖą▒ąŠ ą┐čĆąĖąĮčāąČą┤ą░čÄčé ą║ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĖčÄ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąŠą▓, ą╗ąĖą▒ąŠ ąĘą░ą┐čĆąĄčēą░čÄčé č鹥 ąĖą╗ąĖ ąĖąĮčŗąĄ ąŠą▒ą╝ąĄąĮčŗ ą╝ąĄąČą┤čā ą┤ą▓čāą╝čÅ ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čćą░čüčéąĮčŗą╝ąĖ ą╗ąĖčåą░ą╝ąĖ, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čéą░ą║ąĖą╝ ąČąĄ ą▓č鹊čƹȹĄąĮąĖąĄą╝ ą▓ čüč乥čĆčā čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ą║ą░ą║ ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ. ąś ą▓ č鹊ą╝ ąĖ ą▓ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗ąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░čÄčé čüą▓ąŠą╣ ą┤ąŠčģąŠą┤ ąĘą░ čüč湥čé čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖčÅ ą┤ąŠčģąŠą┤ąŠą▓ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ, ą▒čāą┤čāčćąĖ ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ čĆą░ąĘčĆčāčłąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░, č湥ą╝ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ, ąĖą╝ąĄąĄčé čéčā ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéčī, čćč鹊 čéčĆąĄą▒čāąĄčé ąŠčé ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čŹą║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓ ą┤ą╗čÅ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ, ąĮąŠ ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąĮąĄ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčé ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ čéą░ą║ąĖčģ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓ ą▓ ąĄą│ąŠ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖąĖ. ąØą░ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĄ čŹč鹊 ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé, čćč鹊 ąŠąĮąŠ čéčĆąĄą▒čāąĄčé čüą▒ąŠčĆą░ ąĖ čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓čŗčģ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖą╣, ąĮąŠ ąĮąĄ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčé ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗčģ ą┤ąŠčģąŠą┤ąŠą▓ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ąĢčüą╗ąĖ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖčéčī ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčāčÄ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║čā, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ąĖą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗ąĖ ą╝ąŠą│čāčé ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī ąŠčé ą│čĆčāą┐ą┐, ąĖąĘą▓ą╗ąĄą║ą░čÄčēąĖčģ ą┐čĆčÅą╝čāčÄ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮčāčÄ ą▓čŗą│ąŠą┤čā ąŠčé č鹥čģ ąĖą╗ąĖ ąĖąĮčŗčģ ą╝ąĄčĆ, č鹊 čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖąĮąŠčüąĖčé ą┤ąŠčģąŠą┤ ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĖčÅ ąČą░ąČą┤čŗ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ (ą║ą░ą║, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ąĄčüą╗ąĖ A, ąĮąĄ ąĖą╝ąĄčÅ ąŠčé čŹč鹊ą│ąŠ ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą╣ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą▓čŗą│ąŠą┤čŗ, ąĘą░ą║ąŠąĮąŠą┤ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĘą░ą┐čĆąĄčēą░ąĄčé B ąĖ C ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅčéčī ą▓ąĘą░ąĖą╝ąŠą▓čŗą│ąŠą┤ąĮčŗąĄ ąŠą▒ą╝ąĄąĮčŗ ą┤čĆčāą│ čü ą┤čĆčāą│ąŠą╝). ąĪ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓čŗčģ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖą╣ ą┐ąŠ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐čā ┬½ąŠčéąĮčÅčéčī čā ą¤ąĄčéčĆą░ ąĖ ąŠčéą┤ą░čéčī ą¤ą░ą▓ą╗čā┬╗ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ąĄčé ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓ ą▓ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą┐čāč鹥ą╝ ą┐čĆąĖčüą▓ąŠąĄąĮąĖčÅ ┬½ą║ąŠą╝ąĖčüčüąĖąŠąĮąĮčŗčģ┬╗ ąĘą░ čŹčéčā ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī. ąØąŠ ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąŠąĮąŠ ą╝ąŠąČąĄčé ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĮąŠčüąĖčéčī ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ąĖąĮąŠą│ąŠ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĖčÅ (ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÅ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮąĄ ą┐čĆąĖąĘąĮą░č鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą¤ą░ą▓ą╗ą░), ą║čĆąŠą╝ąĄ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ąĮąĖčÅ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ čĆąĄčüčāčĆčüą░ą╝ąĖ ąĖ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ čéčĆą░čéąĖčéčī ąĖčģ ą┐ąŠ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝čā čāčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖčÄ.ŌüĄŌü░
ą£ąĄąČą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ąŠąĮčäą╗ąĖą║čéčŗ ąĖ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čéčĆąĄą▒čāčÄčé 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ čüčĆąĄą┤čüčéą▓, ąĖ č湥ą╝ čćą░čēąĄ ąŠąĮąĖ čüą╗čāčćą░čÄčéčüčÅ ąĖ č湥ą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąŠąĮąĖ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖč鹥ą╗čīąĮčŗ, č鹥ą╝ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮą░ ąĮąĖčģ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ čĆąĄčüčāčĆčüąŠą▓. ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, č鹥 ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĖčĆčāčÄčé ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖąĄ čĆąĄčüčāčĆčüčŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąŠčéčĆą░čéąĖčéčī ąĮą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗąĄ čāčüąĖą╗ąĖčÅ, ą┐čĆąĖ ą┐čĆąŠčćąĖčģ čĆą░ą▓ąĮčŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ ąĖą╝ąĄčÄčé č鹥ąĮą┤ąĄąĮčåąĖčÄ ąŠą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čéčī ą┐ąŠą▒ąĄą┤čŗ. ąś ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ą░ čćąĖčüč鹊ą│ąŠ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą▒ąĄąĘ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖąĮąŠčüąĖčé ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā ą▒ąŠą╗čīčłąĖą╣ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗą╣ ą┤ąŠčģąŠą┤, č湥ą╝ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ą░ čćąĖčüč鹊ą│ąŠ čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖą╗ąĖ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠąŠą▒ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü čĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄą╝, č鹊, ą▓ąŠ ąĖąĘą▒ąĄąČą░ąĮąĖąĄ ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą│ąŠ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ, ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▓ąŠą╗ąĄą╣-ąĮąĄą▓ąŠą╗ąĄą╣ ą┤ą▓ąĖą│ą░čéčīčüčÅ ą▓ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤ąĄčĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ąĖ ąĖ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čćąĖčüč鹊ą│ąŠ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░.
ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ą░ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░ ą┐ąĄčĆąĄą┤ čĆąĄą│čāą╗čÅčéąĖą▓ąĮčŗą╝ ą▓ čüč乥čĆąĄ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĖ ąŠą▒čŖčÅčüąĮčÅčÄčé č鹊čé čäą░ą║čé, čćč鹊 ąĪą©ąÉ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄą╗ąĖ čüčéą░čéčāčü ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠą╣ ą╝ąĖčĆąŠą▓ąŠą╣ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą┤ąĄčƹȹ░ą▓čŗ,ŌüĄ┬╣┬Āą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ čéą░ą║ąĖčģ ą▓ ą▓čŗčüčłąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ čĆąĄą│čāą╗čÅčéąĖą▓ąĮčŗčģ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓, ą║ą░ą║ ą│ąĖčéą╗ąĄčĆąŠą▓čüą║ą░čÅ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖčÅ ąĖ čäą░čłąĖčüčéčüą║ą░čÅ ąśčéą░ą╗ąĖčÅ, čüą╗ą░ą▒ąŠčüčéčī ąĪąŠą▓ąĄčéčüą║ąŠą│ąŠ ąĪąŠčĹʹ░ ąĖ ąĄą│ąŠ čüąŠčĹʹĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ąØąÉąóą× ąĖ čüčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąĖąĄ čłą░ą│ąĖ ą░ą┤ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░čåąĖąĖ ąĀąĄą╣ą│ą░ąĮą░ ąĖ, ą▓ ą╝ąĄąĮčīčłąĄą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ, ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ąóčŹčéč湥čĆ ą║ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ą┤ąĄčĆąĄą│čāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ąĖ, ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ, ą║ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą░ą│čĆąĄčüčüąĖą▓ąĮąŠą╣ ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĄ.
ąóą░ą║ąŠą▓ ąĖč鹊ą│ ą┐čĆą░ą║čüąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖ ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čüąŠčåąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅ čŹą▓ąŠą╗čÄčåąĖąĖ ąĮčŗąĮąĄčłąĮąĄą│ąŠ čŹčéą░čéąĖčüčéčüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĖčĆą░ ąĖ, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, čĆąŠčüčéą░ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░. ąÆ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÄ čüąĄą▒ąĄ, ąŠčüąĮąŠą▓čŗą▓ą░čÅčüčī ąĮą░ čŹč鹊ą╝ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĖ, ą┤ą░čéčī ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą║čĆą░čéą║ąĖčģ ąĘą░ą╝ąĄčćą░ąĮąĖą╣ ą┐ąŠ ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ą▒čŗ ą┤ą░čéčī ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┐čĆąĄąŠą┤ąŠą╗ąĄčéčī ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠąĄ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ.
ąĪ ąĮąĖą╝ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą▒ąŠčĆąŠčéčīčüčÅ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ą▒ąŠą╣ą║ąŠčéą░, ą║ą░ą║ čü čćą░čüčéąĮčŗą╝ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąŠą╝, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąĖąĮčüčéąĖčéčāčé, ąĘą░ąĮčÅčéčŗą╣ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąŠą╝ ą▓ čüč乥čĆąĄ 菹║čüą┐čĆąŠą┐čĆąĖą░čåąĖąĖ ąĖ 菹║čüą┐ą╗čāą░čéą░čåąĖąĖ, ąĮąĄ ąŠą▒čĆą░čēą░ąĄčé ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ąĮą░ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╣ ą▓ąĄčĆą┤ąĖą║čé, ą▓čŗčĆą░ąČą░ąĄą╝čŗą╣ ą▒ąŠą╣ą║ąŠč鹊ą╝. ąØąĄą╗čīąĘčÅ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčüč鹊čÅčéčī ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą╝čā ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā ąĖ ą┐čāč鹥ą╝ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĮą░čüąĖą╗ąĖčÅ, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ąĄą│ąŠ ą░ą│čĆąĄčüčüąĖąĖ, čéą░ą║ ą║ą░ą║ čŹčéą░ ą░ą│čĆąĄčüčüąĖčÅ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄą╝. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą▓čüąĄ ąĘą░ą▓ąĖčüąĖčé ąŠčé ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄąĮčŗ ą▓ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĖ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ą║ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā. ąŁčéąĖą║ą░ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ŌĆö čé. ąĄ. ąĖą┤ąĄčÅ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 čćą░čüčéąĮą░čÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčī čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓čŗą╝ ąĖąĮčüčéąĖčéčāč鹊ą╝ ąĖ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┐čāč鹥ą╝ ą║ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╝čā ą┐čĆąŠčåą▓ąĄčéą░ąĮąĖčÄ ąĖ čćč鹊 ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą░ąĮčéąĖąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ąĖąĮčüčéąĖčéčāč鹊ą╝, čĆą░ąĘčĆčāčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĖą╝ ąĮą░ ą┐čĆąŠčåąĄčüčü ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ą░, ŌĆö čŹčéą░ ąĖą┤ąĄčÅ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą▓ąŠąĘčĆąŠą┤ąĖčéčīčüčÅ ąĖ ą▓ąĮąŠą▓čī ą┤ą░ą▓ą░čéčī ą▓ą┤ąŠčģąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ čāą╝ą░ą╝ ąĖ čüąĄčĆą┤čåą░ą╝. ąÜąŠąĮąĄčćąĮąŠ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą║čĆčāą│ąŠą╝ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓čāčÄčé čŹčéą░čéąĖčüčéčüą║ąĖąĄ ąĖą┤ąĄąŠą╗ąŠą│ąĖąĖ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗ąĖąĘą╝ą░, ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖąĖ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ (ą▓ ąĄąĄ čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖčüčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą╗ąĖą▒ąŠ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░čéąĖą▓ąĮąŠą╣ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüčéąĖ), čŹč鹊 ą╝ąŠąČąĄčé ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░ą╝ąĖ ą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ ą▒ąĄąĘąĮą░ą┤ąĄąČąĮčŗą╝ ą┤ąĄą╗ąŠą╝. ąØąŠ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓čāčÄčēąĖąĄ ąĖą┤ąĄąĖ ą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖčüčī ą▓ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą╝ ąĖ ą╝ąŠą│čāčé ą╝ąĄąĮčÅčéčīčüčÅ ąĖ ą▓ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝. ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, ąŠąĮąĖ ą╝ąŠą│čāčé ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčīčüčÅ ą▓ ąŠą┤ąĮąŠ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ.ŌüĄ┬▓ ąÉ ąĖą┤ąĄčÅ čćą░čüčéąĮąŠą╣ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖą╝ąĄąĄčé ąŠą┤ąĮąŠ ąĮąĄčüąŠą╝ąĮąĄąĮąĮąŠąĄ ą┐čĆąĄąĖą╝čāčēąĄčüčéą▓ąŠ: ąŠąĮą░ ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠąĮą░ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐ąŠą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╝ ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤čŗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘčāą╝ąĮąŠą│ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓ą░.ŌüĄ┬│
ą”ąĖčéąĖčĆčāąĄą╝čŗąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ
Acton, Lord J. (1948). Essays on Freedom and Power. Glencoe: Free Press. Andreski, St. (1969). The African Predicament. New York: Atherton Press.
Andreski, St (1966). Parasitism and Subversion. New York: Pantheon.
Atkinson, A. B. and Stiglitz, J. E. (1980). Lectures on Public Economics. New York: McGraw Hill (čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤: ąÉčéą║ąĖąĮčüąŠąĮ ąŁ.ąæ., ąĪčéąĖą│ą╗ąĖčå ąö.ąŁ. ąøąĄą║čåąĖąĖ ą┐ąŠ 菹║ąŠ- ąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ č鹥ąŠčĆąĖąĖ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüąĄą║č鹊čĆą░. ą£.: ąÉčüą┐ąĄą║čé-ą¤čĆąĄčüčü, 1995).
Baechler, J. (1976). The Origins of Capitalism. New York: St MartinŌĆÖs.
┬Ā
Bauer, P. T. (1981). Equality, The Third World and Economic Delusion. Cambridge: Harvard University Press.
┬Ā
Bauer, P. T. (1972). Dissent on Development. Cambridge: Harvard University Press.
┬Ā
Bauer, P. T. and Yamey, B. S. (1957). The Economics of Under-Developed Countries. London: Nisbet and Co.
┬Ā
Baumol, W. and Blinder, A. (1979). Economics: Principles and Policy. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
┬Ā
Benda, J. (1969). The Treason of the Intellectuals. New York: Norton.
┬Ā
Bendix, R. (1978). Kings or People. Berkeley: University of California Press.
┬Ā
Boetie, E. de la (1975). The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude (ed. M. N. Rothbard). New York: Free Life Editions.
┬Ā
Bramsted, E. K. and Melhuish, K. J., eds. (1978). Western Liberalism. London: Longman.
┬Ā
Break, G. F. (1974). The Incidence and Economic Effects of Taxation // idem. The Economics of Public Finance. Washington, D. C.: Brookings.
┬Ā
Buchanan, J. and Tullock, G. (1965). The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press (čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ ą▓ ą║ąĮąĖą│ąĄ: ąæčīčÄą║ąĄąĮąĄąĮ ąöąČ.ą£. ąĪąŠčćąĖąĮąĄąĮąĖčÅ. ą£.: ąóą░čāčĆčāčü-ąÉą╗čīčäą░, 1997).
Cipolla, C. M. (1980). Before the Industrial Revolution: European Society andEconomy1000-1700. New York: Norto.
┬Ā
┬Ā
Copleston, F.C. (1955). Aquinas. London: Penguin Books.
┬Ā
Cuzan, A. G. (1979). Get Out of Anarchy┬╗ // Journal of Libertarian Studies. Vol. 3. Ōä¢ 2.
┬Ā
Davis, L. E. and Huttenback, R. A. (1986). Mammon and the Pursuit of Empire: The Political Economy of British Imperialism1860-1912. Cambridge: Cambridge University Press.
┬Ā
Dicey, A. V. (1981). Lectures on the Relation Between Law and Public Opinion in England. New Brunswick: Transaction Books.
┬Ā
Dolan, E. ed. (1976). The Foundations of Modern Austrian Economics. Kansas City: Sheeh and Ward.
┬Ā
Ekelund, R. and Tollison, R. (1988). Microeconomics. Glenview: Scott, Foresman and Co.
┬Ā
Ekirch, A. E. (1976). The Decline of American Liberalism. New York: Atheneum.
┬Ā
Fisher, St., Dornbusch, R. and Schmalensee, R. (1988). Microeconomics (2nd ed.). New York: McGraw Hill.
┬Ā
Fusfeld, D. R. (1987). Economics: Principles of Political Economy (3rd ed.). Glenview: Scott, Foresman and Co.
┬Ā
Greenleaf, W. H. (1983-87). The British Political Tradition. 3 Vols.. London: Methuen.
┬Ā
Grice-Hutchinson, M. (1952). The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary History. Oxford: Clarendon Press.
┬Ā
Halevy, E. (1961). A History of the English People in the 19th Century. 2 Vols. London: Benn.
┬Ā
Hayek, F. A., ed. (1963). Capitalism and the Historians. Chicago: University of Chicago Press.
┬Ā
Herbert, A. (1978). The Right and Wrong of Compulsion by the State. Indianapolis: Liberty Classics.
┬Ā
Higgs, R. (1987). Crisis and Leviathan. New York: Oxford University Press
┬Ā
Hoppe, H. H. (1988a). The Theory of Socialism and Capitalism. Boston: Kluwer.
┬Ā
Hoppe, H. H. (1988b). Praxeology and Economic Science. Auburn: Mises Institute.
┬Ā
┬Ā
Hoppe, H. H. (1988c). The Justice of Economic Efficiency // Austrian Economics Newsletter, Winter.
┬Ā
Hoppe, H. H. (1987). Eigentum, Anarchie und Staat. Opladen: Westdeutscher Verlag.
┬Ā
Hume, D. (1971). Essays, Moral, Political and Literary. Oxford: Oxford University Press.
┬Ā
Jasay, A. de (1985). ąóhe State. Oxford: Blackwell.
┬Ā
Johnson, P. (1983). Modern Times: The World from the Twenties to the Eighties. New York: Harper and Row.
┬Ā
Jouvenel, B. de (1949). On Power. New York: Viking Press.
┬Ā
Keynes, J. M. (1919). The Economic Consequences of the Peace. London: Macmillan.
┬Ā
Krippendorff, E. (1985). Staat und Krieg. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
┬Ā
Locke, J. (I960). Two Treatises of Government (ed. P.Laslett). Cambridge: Cambridge University Press (čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤: ąøąŠą║ą║ ąöąČ. ąöą▓ą░ čéčĆą░ą║čéą░čéą░ ąŠ ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ // ąøąŠą║ą║ ąöąČ. ąĪąŠčćąĖąĮąĄąĮąĖčÅ: ąÆ 3 čé. ąó.3. ą£.: ą£čŗčüą╗čī, 1988. ąĪ.135-405).
Mencken, H. A. (1949). A Mencken Gestomathy. New York: Vintage Books.
┬Ā
Mencken, H. A. (1926). Notes on Democracy. New York: Knopf.
┬Ā
Michels, R. (1957). Zur Soziologie des Parteiwesens. Stuttgard: Kroener. Miller, R. L. (1988). Economics Today (6th. d.). New York: Harper and Row. Mises, L. von (1985a). Liberalism. San Francisco: Cobden Press.
Mises, L. von (1985b). Theory and History. Auburn: Mises Institute (čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ą┐ąĄ- čĆąĄą▓ąŠą┤: ą£ąĖąĘąĄčü ąø. č乊ąĮ ąóąĄąŠčĆąĖčÅ ąĖ ąĖčüč鹊čĆąĖčÅ. ą£.: ą«ąØąśąóąś-ąöąÉąØąÉ, 2001).
Mises, L. von (1983). Nation, State, and Economy. New York: New York University Press.
┬Ā
Mosca, G. (1939). The Ruling Class. New York: McGraw.
┬Ā
Nock, A. J. (1983). Our Enemy, the State. Delevan: Hallberg Publishing Co.
┬Ā
Oppenheimer, F. (1914). The State. New York: Vanguard Press.
┬Ā
Pirenne, H. (1952). Medieval Cities. Princeton: Princeton University Press.
┬Ā
RockwelL, L. (1988). Man, Economy and Liberty: Festschrift for M. N. Rothbard, Auburn: Mises Institute.
┬Ā
Roover, R. de (1974). Business, Banking, and Economic Thought. Chicago: University of Chicago Press.
┬Ā
Rothbard, M. N. (1986). The Brilliance of Turgot. Auburn: Mises Institute. Rothbard, M. N. (1982). The Ethics of Liberty. Atlantic Highlands: Humanities Press. Rothbard, M. N. (1981). The Myth of Neutral Taxation // Cato Journal. Vol. I. Ōä¢ 2. Rothbard, M. N. (1978). For a New Liberty. New York: Macmillan.
Rothbard, M. N. (1977). Power and Market. Kansas City: Sheed Andrews and Mc Meel.
┬Ā
Rothbard, M. N. (1976). New light on the Prehistory of the Austrian School // Dolan (1976).
┬Ā
Rothbard, M. N. (1974). The Anatomy of the State// Rothbard, M. N. Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays. Washington, D.C.: Libertarian Review Press.
┬Ā
Rothbard, M. N. (1972). Education, Free and Compulsory; The IndividualŌĆÖs Education. Wichita: Center for Independent Education.
┬Ā
Rothbard, M. N. (1970). Man, Economy and State. Los Angeles: Nash.
┬Ā
Say, J. B. (1964). A Treatise on Political Economy. New York: A.M. Kelley.
┬Ā
Schumpeter, J. A. (1955). Imperialism and Social Classes. New York: World Publishing Co.
┬Ā
Schumpeter, J. A. (1954). A History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press.
┬Ā
Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism. Socialism and Democracy. New York: Harper (čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤: ą©čāą╝ą┐ąĄč鹥čĆ ąÖ. ąÜą░ą┐ąĖčéą░ą╗ąĖąĘą╝, čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖąĘą╝ ąĖ ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖčÅ. ą£.:ąŁą║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ą░, 1995).
Spencer, H. (1970). Social Statics. New York: Shalkenbach Foundation. Stiglitz, J. E.(1986). Economics of The Public Sector. New York: Norton. Taylor, J. P. (1965). English History 1914-15. Oxford: Clarendon Press.
Tigar, M. and Levy, M. (1977). Law and the Rise of Capitalism. New York: Montly Review Press.
┬Ā
Tilly, Ch. (1985). War Making and State Making as Organized Crime // Evans, P. et. al., eds. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press.
┬Ā
Tuck, J. (1979). Natural Rights Theories. Cambridge: Cambridge University Press.
┬Ā
Veatch, H. (1985). Human Rights. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
┬Ā
Webber, C. and Wildavsky, A. (1986). A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster.
┬Ā
RockwelL, L. (1988). Man, Economy and Liberty: Festschrift for M. N. Rothbard, Auburn: Mises Institute.
┬Ā
Roover, R. de (1974). Business, Banking, and Economic Thought. Chicago: University of Chicago Press.
┬Ā
Rothbard, M. N. (1986). The Brilliance of Turgot. Auburn: Mises Institute. Rothbard, M. N. (1982). The Ethics of Liberty. Atlantic Highlands: Humanities Press. Rothbard, M. N. (1981). The Myth of Neutral Taxation // Cato Journal. Vol. I. Ōä¢ 2. Rothbard, M. N. (1978). For a New Liberty. New York: Macmillan.
Rothbard, M. N. (1977). Power and Market. Kansas City: Sheed Andrews and Mc Meel.
┬Ā
Rothbard, M. N. (1976). New light on the Prehistory of the Austrian School // Dolan (1976).
┬Ā
Rothbard, M. N. (1974). The Anatomy of the State// Rothbard, M. N. Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays. Washington, D.C.: Libertarian Review Press.
┬Ā
Rothbard, M. N. (1972). Education, Free and Compulsory; The IndividualŌĆÖs Education. Wichita: Center for Independent Education.
┬Ā
Rothbard, M. N. (1970). Man, Economy and State. Los Angeles: Nash.
┬Ā
Say, J. B. (1964). A Treatise on Political Economy. New York: A.M. Kelley.
┬Ā
Schumpeter, J. A. (1955). Imperialism and Social Classes. New York: World Publishing Co.
┬Ā
Schumpeter, J. A. (1954). A History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press.
┬Ā
Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism. Socialism and Democracy. New York: Harper (čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤: ą©čāą╝ą┐ąĄč鹥čĆ ąÖ. ąÜą░ą┐ąĖčéą░ą╗ąĖąĘą╝, čüąŠčåąĖą░ą╗ąĖąĘą╝ ąĖ ą┤ąĄą╝ąŠą║čĆą░čéąĖčÅ. ą£.:ąŁą║ąŠąĮąŠą╝ąĖą║ą░, 1995).
Spencer, H. (1970). Social Statics. New York: Shalkenbach Foundation. Stiglitz, J. E.(1986). Economics of The Public Sector. New York: Norton. Taylor, J. P. (1965). English History 1914-15. Oxford: Clarendon Press.
Tigar, M. and Levy, M. (1977). Law and the Rise of Capitalism. New York: Montly Review Press.
┬Ā
Tilly, Ch. (1985). War Making and State Making as Organized Crime // Evans, P. et. al., eds. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press.
┬Ā
Tuck, J. (1979). Natural Rights Theories. Cambridge: Cambridge University Press.
┬Ā
Veatch, H. (1985). Human Rights. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
┬Ā
Webber, C. and Wildavsky, A. (1986). A History of Taxation and Expenditure in the Western World. New York: Simon and Schuster.